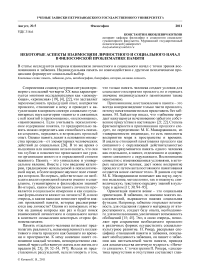Некоторые аспекты взаимосвязи личностного и социального начал в философской проблематике памяти
Автор: Коткин Константин Яковлевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5 (118), 2011 года.
Бесплатный доступ
Память, забвение, речь, автобиография, история, великая личность
Короткий адрес: https://sciup.org/14749952
IDR: 14749952
Текст статьи Некоторые аспекты взаимосвязи личностного и социального начал в философской проблематике памяти
Современная социокультурная ситуация примерно с последней четверти XX века характеризуется многими исследователями как «шокирующая», «кризисная» [19], [4], [22], что заставляет переосмысливать предыдущий опыт, восприятие прошлого, отношение к нему и приводит к актуализации в широком спектре социально-гуманитарных наук категории «память» и связанных с ней понятий («припоминание», «воспоминание», «памятование»). Если учитывать психологическое содержание понятия, то предварительно память можно определить как способность психики сохранять, передавать и возрождать прошлый опыт. Однако память лежит в основании множества процессов – от элементарных человеческих действий до социальных [26]. В то же время о мышлении или внимании нельзя сказать, что они так глубоко и повсеместно пронизывают все уровни организации живого и в определенной степени неживого. Память – это уникальное и универсальное явление. Вместе с тем введение категории, традиционно используемой в психологической науке, в более широкое научное поле ставит ряд вопросов. Во-первых, действительно ли необходим анализ проявлений памяти именно в социальном, гуманитарном и философском знании? Во-вторых, каким образом память личности проявляется в социальном измерении и как социальные формы памяти влияют на личность? И, в свою очередь, к каким выводам позволяет прийти анализ проявлений памяти, которые рассматриваются вне личности? Одним из возможных ответов на данные вопросы как раз и будет поиск взаимосвязей личностного и социального начал в контексте осмысления некоторых сторон феномена памяти.
Память отдельного человека позволяет предполагать реальность, невымышленность коллективного опыта прошлого как бывшего во времени и пространстве. К нему косвенно имеет отношение каждый человек, непосредственно связанный через собственную жизнь или жизнь его предков [6; 23], [9; 52–54, 197]. Исходя из представленных рассуждений, нельзя говорить о том, что только память человека создает условия для социального восприятия прошлого, но и отрицать значение индивидуального памятования также невозможно.
Припоминание, восстановление в памяти – это всегда воспроизведение только части прошлого, потому памятование нельзя представить без забвения. М. Хайдеггер писал, что «забвение придает кажущемуся исчезновению забытого собственное присутствие в настоящем» [21; 22]. Степень фрагментарности в припоминании прошлого следует, по определению М. К. Мамардашвили, из «завершенности индивида», то есть неполноты восприятия мира в пространстве и времени. В анализе отношений памятования прошлого как связанного с окружающей действительностью часто подразумевается память одного человека как отдельного, а значит, отделенного и одновременно связанного с окружающим. Воспоминание совместно с изменяющимися условиями, в которых находится человек, дает новое восприятие прошлого: путем акта постоянного памятования создается новое «вечное тело». В данном случае М. К. Мамардашвили понимает как науку, научное мышление, методологию, так и знаковую, символическую, текстовую передачу знаний в культуре в целом [11; 39, 94–95].
Ориентация памяти вовне – это социальная ориентация. В забвении, по мнению многих исследователей, выражается важная социальная функция. Например, забвение открывает возможность для отделения главного материала от второстепенного, создает базу опыта, необходимого для использования, увеличивает возможность обобщений [15; 45]. Это, в свою очередь, позволяет при сохранении необходимого прошлого в различных формах осуществлять социальнокультурное развитие. П. Рикер, раскрывая специфику отношений памяти и забвения, показывает необходимость забвения, он пишет о забвении как неотъемлемой части памяти, приводя для доказательства античную мудрость: «Ничего слишком». С точки зрения П. Рикера, «диалектика присутствия и отсутствия составляет глав- ное в репрезентации прошлого» [17; 575]. Таким образом, через взаимодействие памяти и забвения осуществляется взаимосвязь человека, общества, истории, государства, нации.
Память в то же время связана со всеми составляющими психики: ощущениями, мышлением и воображением. Данные процессы так или иначе влияют на память, опосредуют построение картины прошлого. В контексте процессов психики памятование в отношении к социальному измерению – проявление индивидуальности человека в социальных действиях. Индивидуальность памятования в данном случае – это и проявление свободы через выбор конкретного опыта прошлого, и его непосредственное воспроизведение в различных социальных ситуациях. Непосредственно не связанные с процессом воспоминания психологические особенности личности (темперамент, характер) откладывают отпечаток на то, как происходит восприятие прошлого, что имеет отражение в социальной действительности: например, Аристотель замечает, что лучше припоминают проворные, а память лучше у медлительных [2; 161]. Эмоции являются еще одним фактором воспоминания, воздействующим на складывание образа воспоминания: отмечается их долгое сохранение в виде аффективного отпечатка образов эмоциональной памяти. В свою очередь, произвольное воспроизведение происходит с большой трудностью [12; 341]. П. П. Блонский отмечает, что зрительные образы эмоционально сильных впечатлений появляются сравнительно легко. Введя понятие «генерализация чувства», он стремится продемонстрировать, что воспоминания об одном объекте переходят на все другие, а само чувство и стимулы, которые были причиной возникновения этого чувства, в свою очередь, становятся менее дифференцируемыми [7; 318, 336]. Эмоциональное содержание памяти выявляет новый аспект, находящийся на грани частного (личного) и общего (надличностного). К событиям прошлого выражается симпатия или антипатия, прошедшее воспринимается как «хорошее» или «плохое».
Нравственно-этическое содержание памяти проявляется через оценку и отношение к фактам и периодам прошлого. Например, для античной философии характерна оценка памяти как индикатора добродетели: в памяти постоянно сохраняется тот поступок, который добродетелен [1; 71]. В философии Платона этическое содержание воспоминания находит еще более широкую трактовку: через воспоминание, связанное с миром идей, человек постигает идеи и заложенные в них благо, прекрасное, истинное. Но нравственно-этическое содержание процессов памяти также ярко проявляется в языке современной обыденной жизни, например в устойчивых словосочетаниях. Они предписывают необходимость памятования или забвения для потомков, отделяя положительное и отрицательное через отношение к нему, переданное средствами языка (см. [8], [18; 177–178]).
Память человека связана с социальными явлениями и так или иначе обусловлена ими. Следует рассмотреть посредников, через которых происходит обмен между личностным и социальным уровнями, трансформация индивидуальной памяти в социальную или социализированную память.
Одним из проводников, объединяющих два полюса, выступает речь. Речь индивидуальна, это воспроизведение памятования чего-то одного через неговорение или забвение многого другого, остального. Речь ориентирована социально: человек говорит что-то и всегда кому-то (пусть даже самому себе, но как другому). Ключевые процессы вербализации – типизация и детализация – отражают социально ориентированную работу памятования (точнее, памятования совместно с забвением). На память в процессе вербализации оказывает влияние социальная ситуация (от создания условий через оценку адресата до определения темы при выделении событий различного уровня в качестве центральных). В акте вербализации человек выделяет какой-либо образ, эпизод или идею. Появляется их иерархия, а затем они становятся типичными, знаковыми, показательными [23], [25]. При описании человеком отдельных образов немедленно проявляются социальные интересы и отношения; смысл, который воспринимается как реальный, является конвенциональным, а основой для его возникновения служит отдельное мнение или мнение социальной группы в целом; на восприятие и воспоминание оказывают влияние типизация и схематизация, основой для которых служит сформировавшийся ранее опыт [25; 216, 235, 253].
При вербализации жизненный опыт человека выражается в словах. Это не что иное, как описание своей собственной жизни. Автобиографии являются особенными письменными источниками, к которым относятся письма, дневники, мемуары. События, которые описываются в автобиографиях, имеют определенную внутреннюю иерархическую структуру: выделяются обычные факты и важные происшествия, которые затем сводятся к общему, конкретизация часто отсутствует. Данные процессы являются общими для памяти в целом [23], [27; 74–75]. Автобиография – это именно социальный акт, акт усилия для восстановления и систематизации прошлого знания, принимающий во внимание социальное окружение. Текст, повествующий о собственной жизни, является социальным по форме и содержанию. Автор, излагая свою жизнь, довольно часто стремится реализовать и воспитательные цели. Автобиография часто является продуктом пережитого кризиса. Особенность написания автобиографии заключается и в том, что человек ограничен рамками собственной памяти. Но одновременно он не может открыто выдумывать нечто [5; 10– 12]. Автобиография – яркое проявление индивидуальной работы памяти. Часто текст становится особенным по форме и содержанию потому, что предугадываются мысли читателя. В данной ситуации делается расчет на определенную публику и выражение мыслей вопреки нормам или в подтверждение их, на что воздействует социальная ситуация. События, происшествия, социальная среда присутствуют в любое время и в любом месте, однако в автобиографическом тексте они так или иначе систематизируются, располагаются, разделяются. Жизнь как прожитое время делится на периоды, относительно которых выбираются и устанавливаются главные и второстепенные события. Они являются своеобразными символами перехода на границе периодов, точками, разделяющими и связывающими прошлое в кажущуюся единой линию. Периодизация как стремление охватить в единстве разрозненные события частной жизни с общим временным потоком развития человечества является одним из сходных моментов с описанием прошлого личности и социального прошлого. Выделение событий в описании личностного и социального прошлого объединяется процессом памятования.
Биография – это описание не своей жизни, а жизни другого. Биография как текст исторически появляется ранее, чем автобиография: первые биографии как жизнеописания – это мифы, основой сюжета которых нередко были события жизни реальных людей. Объектом описания современных биографий также является личность, выходящая из ряда обычных людей, – «великая личность». Согласно М. Элиаде, человек традиционной культуры в мифологизированной личности ищет образец подражания – архетип [24]. Установление величия исторической личности требует сходную процедуру – текстуально оформленную передачу традиции для того, чтобы сам текст и/или личность стали «каноническими». Переход текста из репрезентирующего прошлое в канонический текст описал Я. Ассман [3]. Величие исторической личности устанавливается сходным путем: повторением через возрождение в мифе или мифологизированной истории и сакрализацией или установлением традиции через толкование, отбор приемлемого. Закрепление в традиции происходит через механизмы типизации и конвенционализации. Появляется стереотип, схема социального восприятия великой личности, в формировании которой большую роль играет эмоциональная сторона воздействия: событие, связанное с закреплением в памяти образа великой личности, должно быть происшествием, то есть тем, что выходит из обычного течения жизни (распятие Христа или осуждение Галилея). Большую роль играет эмоциональная сторона воздействия: «Смерть героев всегда будет трагической и грандиозной, великие вожди будут иметь величественное лицо. <…> Работа идентификации автоматически замораживает персонажи и оправляет их в рамки», – комментирует С. Московичи работу памяти по отбору событий прошлого и роль эмоционального воздействия в этом отборе [13; 359]. В итоге получается окончательный вид, образ выдающейся личности прошлого, несущий роль эквивалента – «имаго», по определению С. Московичи. Через типизацию, конвенционализацию, появление стереотипного образа великой личности вновь проявляют себя взаимосвязанные механизмы социально ориентированного памятования и забвения.
В великой личности концентрируется восприятие прошлого, оценки настоящего, цели и надежды будущего. Текст, для того чтобы отвечать интересам читателя биографий великих людей, должен соответствовать его представлениям об истории. Так описание характеристик биографии великой личности, выход на описание прошлого вне действий отдельного человека ставят вопрос об описании истории. Историк создает то, что можно было бы назвать образом прошлого, картиной прошлого. Память играет ключевую роль в деятельности историка, опосредуя собой индивидуальную историю, переходящую во внеинди-видуальную: историк описывает историю и одновременно собственный опыт, так как для описания он использует факты своей жизни, а также испытывает воздействие исторического источника. Как отмечает П. Рикер, человек в настоящем расположен к восприятию истории потому, что «ищет» воспоминание. Опыт узнавания через доверие является важной чертой феноменологии памяти, в которой память находится между присутствием воспоминания и его поиском [16; 25]. Кроме того, историк становится посредником между властью и обществом, а сама позиция посредника дает новое понимание исторической личности, дат, материальных символов культуры, которые, по определению П. Нора, являются «местом памяти» и ориентируют из прошлого в настоящем для будущего, следуя механизмам актуализации одного и замалчивания другого. Историк в этом процессе часто становится почти незаметным «орудием передачи, тире» [20; 38]. Однако сама возможность познания истории формируется по причине отстояния прошлого во времени, то есть наличия того, что помнится или известно и что забыто или неизвестно. На необходимость отстояния во времени для возможности оценки прошлого обращал внимание Р. Дж. Коллингвуд [10; 281–288]. Ранее Ф. Ницше оценивал восприятие прошлого через единство памятования и забвения как проявление сущности человека, живого и живущего существа [14].
Таким образом, анализ проявлений памяти в социальном, гуманитарном и философском знании выявляет сущностное содержание процессов социокультурного развития, показывает важность и актуальность исследования как памяти вообще, так и отдельных ее аспектов.
В целом процессы памятования являются той границей, где сходятся личностное и социальное, внутреннее и внешнее, частное и общее. Память личности и социальные формы памяти (речь, текст, история, культура) связывают в одно целое отдельного человека и общество и позволяют изменяться, сохраняя преемственность. Через процессы памятования и забвения личность формирует отношение к миру, к социальному окружению, в то же время социальное задает изначальные условия этого отношения и является фактором его изменения.
Список литературы Некоторые аспекты взаимосвязи личностного и социального начал в философской проблематике памяти
- Аристотель. Никомахова этика: Пер. с др.-греч.//Сочинения: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1984. С. 53-294.
- Аристотель. О памяти и припоминании: Пер. с др.-греч.//Вопросы философии. 2004. № 7. С. 161-168.
- Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности: Пер. с нем. М.: Языки славянской культуры, 2004. 368 с.
- Бауман З. Текучая современность: Пер с англ. СПб.: Питер, 2008. 240 с.
- Безрогов В. Г. Память текста: автобиографии и общий опыт коллективной памяти//Сотворение истории. Человек -память -текст: Цикл лекций/Науч. ред. Л. П. Репина; отв. ред. Е. А. Вишленкова. Казань: Мастер Лайн, 2001. С. 5-38.
- Бердяев Н. А. Смысл истории. Новое средневековье. М.: Канон+, 2002. 448 с.
- Блонский П. П. Избранные психологические произведения. М.: Просвещение, 1964. 548 с.
- Брагина Н. Г. Фразеологические тексты. Память как фразеологический текст//Культурные слои во фразеологизмах и дискурсивных практиках/Отв. ред. В. Н. Телия. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 189-201.
- Карсавин Л. П. Философия истории. М.: АСТ: Хранитель, 2007. 510 с.
- Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография: Пер. с англ. М.: Наука, 1980. 488 с.
- Мамардашвили М. К. Стрела познания (набросок к естественноисторической гносеологии). М., 1997. 304 с.
- Механизмы памяти/И. П. Ашмарин, Ю. С. Бородкин, П. В. Бундзен и др. Л.: Наука, 1987. 432 с.
- Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс: Пер. с франц. М., 1996. 478 с.
- Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни: Пер. с нем.//Так говорил Заратустра. М.: ЭКСМО; СПб: Мидгард, 2005. С. 123-188.
- Рибо Т. Память в ее нормальном и болезненном состояниях: Пер. с франц. СПб., б. г. 150 с.
- Рикер П. Историописание и репрезентация прошлого: Пер. с франц.//Анналы на рубеже веков. М., 2002. С. 23-41.
- Рикер П. Память, история, забвение: Пер. с франц. М: Изд-во гуманитарной литературы, 2004. 728 с.
- Рябцева Н. К. Язык и естественный интеллект/РАН. Институт языкознания. М.: Academia, 2005. 640 с.
- Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. М.: АСТ, 2003. 557 с.
- Франция-память/П. Нора и др.: Пер. с франц. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. 328 с.
- Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: Пер. с нем./Под ред. А. Л. Доброхотова. М., 1991. 192 с.
- Хесле В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности//Вопросы философии. 1994. № 10. С. 112-123.
- Чейф У. Л. Память и вербализация прошлого опыта: Пер. с англ.//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII: Прикладная лингвистика/Сост. В. А. Звегинцев. М.: Радуга, 1983. С. 35-74.
- Элиаде М. Космос и история: Пер. с франц. и англ. М.: Прогресс, 1987. 312 с.
- Bartlett F. C. Remembering: A study in experimental and social psychology. Cambridge: University press, 1950. 317 р.
- Goethals R. G., Solomon P. R. Interdisciplinary perspectives on the Study of Memory//Memory: Interdisciplinary approaches/Ed. by P. R. Solomon, R. G. Goethals, C. M. Kelley, B. R. Stephens. N. Y.: Springer-Verlag, 1989. P. 1-13.
- Neisser U. Domains of memory//Memory: Interdisciplinary approaches/Ed. by P. R. Solomon, R. G. Goethals, C. M. Kelley, B. R. Stephens. N. Y.: Springer-Verlag, 1989. P. 67-83.