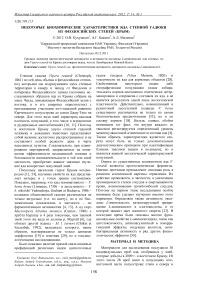Некоторые биохимические характеристики яда степной гадюки из феодосийских степей (Крым)
Автор: Кукушкин О.В., Бакиев А.Г., Маленев А.Л.
Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc
Рубрика: Наземные экосистемы
Статья в выпуске: 1-1 т.14, 2012 года.
Бесплатный доступ
Средние значения протеолитической активности и активности оксидазы L-аминокислот яда степных гадюк Vipera renardi из Крыма достоверно выше, чем из Левобережья Нижней Волги.
Яд, протеолитическая активность, активность оксидазы l-аминокислот
Короткий адрес: https://sciup.org/148205573
IDR: 148205573 | УДК: 598.115
Текст научной статьи Некоторые биохимические характеристики яда степной гадюки из феодосийских степей (Крым)
Степная гадюка Vipera renardi (Christoph, 1861) по сей день обычна в феодосийских степях, под которыми мы подразумеваем здесь степные территории к северу и западу от Феодосии и побережье Феодосийского залива (половина исследованных образцов яда из Крыма собрана на мысе Чауда, замыкающем Феодосийский залив с востока, и в его северных окрестностях) с прилежащими участками юго-западной равнины Керченского полуострова до сопки Джау-Тепе на севере. Для этого вида змей характерна высокая плотность популяций, в том числе в агроценозах и рудеральных местообитаниях [10, 11]. Поэтому в восточном Крыму укусы степной гадюкой человека и домашних животных представляют собой явление достаточно распространенное и не составляют особой редкости даже в черте населенных пунктов. Следовательно, при планировании мероприятий, направленных на повышение эффективности медицинской помощи и безопасности жизнедеятельности в той или иной местности, приобретает важное значение изучение яда конкретных популяций змей.
Поскольку население гадюк Крыма неоднородно [12, 24], изучение свойств их яда представляет интерес и с точки зрения систематики. Показано, например, что яды номинативного – V. berus berus (Linnaeus, 1758) – и лесостепного – V. b. nikolskii Vedmederja, Grubant et Rudaeva, 1986 – подвидов обыкновенной гадюки различаются не только визуально (т.е. по цвету), но и по биохимическим показателям, в частности – по ферментативным активностям [4, 13]. А яд гюрз Macrovipera lebetina turanica (Cernov, 1940) c хребта Нуратау в 4 раза токсичнее, чем таковой змей этого же вида из долины р. Мургаб [6], где обитает другой подвид – M. l. černovi (Chikin et Szczerbak, 1992), валидность которого, таким образом, подтверждается не только данными морфологии [19] и генетики [29], но и токсинологическими исследованиями.
Было показано наличие прямой связи пищевых преференций различных видов щиткоголовых
гадюк (подрод Pelias Merrem, 1820) и токсичности их яда для кормовых объектов [28]. Свойственная некоторым видам либо географическим популяциям гадюк избирательность кормов несомненно генетически детерминирована и сопряжена с составом их яда, а не является результатом одной лишь экологической пластичности. Действительно, номинативный и реликтовый лесостепной подвиды V. berus существенно различаются не только по своим биотопическим предпочтениям [33], но и по составу кормов [18]. Нельзя, однако, обойти вниманием тот факт, что внутри каждого из таксонов регистрируется определенный уровень межпопуляционной изменчивости состава яда [4]. Таким образом, характеристики ядовитого секрета могут быть не только дополнительным диагностическим признаком при идентификации близких таксонов (видов и подвидов), но и являются важной экологической характеристикой популяций.
Одним из существенных компонентов яда V. renardi являются протеолитические ферменты. Именно протеазам принадлежит основная роль в развитии комплексной картины отравления. Их действие проявляется, в частности, в увеличении проницаемости стенок сосудов и свертываемости крови, возникновении тромбоэмболий сосудов. Поэтому на первом этапе исследования особое внимание было уделено изучению именно этого параметра. Определяли также активность оксидазы L -аминокислот, катализирующей превращение L -аминокислот в α -кетокислоты, и от которой зависит цвет ядовитого секрета [23]. В последнее время были описаны многие функциональные свойства L -аминооксидазы, такие как цитотоксичность, антикоагулянтный и геморрагический эффекты, индукция апоптоза, антибактериальная активность и ряд других физиологических эффектов [30].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом для исследования послужили 30 индивидуальных проб яда, отобранных у змей, которые добыты в 2009 г. в восточном Крыму. Из этого числа 28 проб взято в популяциях юговосточной части полуострова: степи к северу и западу от Феодосии (окрестности с. Насыпное, с. Ближнее-Боевое и пгт. Приморский) – 5, югозападная равнина Керченского полуострова – 23 (45о00'–45о10'N, 35o19'–35o56'E); 2 пробы получены от змей, добытых в Северном Крыму, в Джанкойском Присивашье близ ст. Соленое Озеро (45о55'N, 34o29'E). Соотношение полов в выборке было равным (15 самцов, 15 самок). Основу выборки (80%) составили взрослые змеи (L. 285–515 мм; Х±Sx = 388,6±1,34; n=24). Оставшуюся часть выборки (20%) составляли сеголетки (L. 150–200 мм, Х±Sx=177,5±7,63, n=6). Подавляющее большинство проб отобрано в октябре (83,4%), меньшая их часть – в сентябре (13,3%) и июле (3,3%).
Ядовзятия у змей проводили механическим способом не позднее 20 суток с момента отлова (как правило, через 1–8 суток), после чего большая часть змей была возвращена в природные популяции. Ядовитый секрет от каждой особи отбирали в отдельный бюкс. Образцы яда высушивали в эксикаторе над хлористым кальцием при комнатной температуре в течение 12–14 дней; высушенные образцы хранили при температуре +5ºС. Для описания цвета кристаллического ядовитого секрета использовали шкалу А.С. Бондарцева [5].
В лаборатории герпетологии и токсинологии Института экологии Волжского бассейна РАН (г. Тольятти) в каждом индивидуальном образце стандартными методами определяли активности ферментов: протеолитическую активность (ПА) определяли по гидролизу казеината натрия [26]; активность оксидазы L -аминокислот (АО) – с использованием L -фенилаланина в качестве субстрата [32]. Пол и возраст змей при анализе данных биохимии не учитывали. Не принимали также во внимание возможные сезонные изменения протеолитической активности (см.: [6]).
Полученные значения ПА и АО сравнивали с ранее полученными данными о ферментативных активностях яда V. renardi из локалитета в Левобережье Нижней Волги (Россия, Астра-ханская область, ст. Досанг, 46о55′N, 47o55′E), отстоящего от ближайших мест обитания гадюки в Крыму почти на 1000 км к северо-востоку – востоку, от terra typica V. renardi (окрестности бывшей немецкой колонии Сарепта, у нынешней границы Красноармейского района г. Волгоград и Светло-ярского района Волгоградской области) – примерно на 300 км к юго-востоку. Весь материал из Досанга был собран в начале мая 2009 г.
Полученные данные подвергали стандартной статистической обработке. Достоверность межпопуляционных различий средних значений ферментативных активностей определяли с использованием t -критерия Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты анализа изученных выборок приведены в таблице. Во-первых, можно отметить высокий уровень внутрипопуляционной изменчивости характеристик яда. Минимальное и максимальное значение ПА в феодосийской выборке отличаются в 2,2 раза, в заволжской – в 2,1 раза; АО (в Феодосии) – почти в 6 раз. Во-вторых, были выявлены значительные межпопуляционные различия по этому показателю. Минимальное и максимальное значение ПА в феодосийской и заволжской популяциях отличаются в 1,3 и 1,4 раза соответственно, среднее – также в 1,4 раза (в Крыму во всех случаях выше). Максимальное значение АО в феодосийской популяции выше в 1,6 раза, среднее – в 3,4 раза. Выявленные отличия ПА и АО в репрезентативных феодосийской и заволжской выборках в высшей степени достоверны ( P < 0,001): в первом случае t ф = 7,86, во втором – t ф = 9,07. При сравнении присивашской и заволжской выборок достоверные отличия найдены и по ПА ( t ф = 2,58; P < 0,05), и по АО ( t ф = 4,38; P < 0,001). Статистически достоверных отличий между феодосийской и присивашской популяциями при сравнении как ПА, так и АО, не выявлено (возможно, по причине незначительного количества проб из последней популяции). В обоих случаях отличия не достигают 5%-го порога доверительной вероятности при значениях t ф , соответственно, 0,44 и 0,39.
Таблица. Протеолитическая активность (ПА) и активность оксидазы L -аминокислот (АО) в яде V. renardi из Крыма и Заволжья
|
Район |
ПА, мкг тирозина/ мг белка в мин |
АО, Е/ мг белка в мин |
||||
|
M ± m |
lim |
n |
M ± m |
lim |
n |
|
|
Крым, Сиваш |
116,7±3,10 |
113,6–119,8 |
2 |
15,1±4,86 |
10,2–20,0 |
2 |
|
Крым, Феодосия |
123,2±3,90 |
78,8–170,5 |
28 |
13,6±0,97 |
3,9–23,2 |
28 |
|
Заволжье, Досанг |
87,9±2,56 |
59,1–120,9 |
37 |
4,0±0,55 |
0,0–14,5 |
37 |
Таким образом, средние значения ферментативной активности в Крыму оказались существенно более высокими, чем в Заволжье. В связи c этим необходимо отметить, что, по наблюдениям первого автора, укусы гадюк с мыса
Чауда вызывают очень сильные геморрагические и некротические явления, иногда даже мумификацию тканей и сопровождаются резко выраженным болевым синдромом. Степень тяжести отравления оценивается по приводящейся Д.Т.
Жоголевым [7] шкале как вторая, чего никогда не наблюдалось нами при укусах змей из популяций Присивашья. Логично предположить, что отличия клинической картины при укусах гадюк из разных популяций могут быть следствием различной ферментативной активности ядов.
Известно, что цвет ядовитого секрета определяется присутствием в нем кофермента оксидазы L -аминокислот – флавинаденин-динуклеотида [23]. На примере поволжских популяций степной и обыкновенной гадюк показано, что чем выше АО, тем интенсивней окрашен яд [4]. Соответственно, в бесцветных образцах яда АО близка к нулю. Цвет яда V. renardi из Астраханской области, где зарегистрированы сравнительно низкие значения АО, желтый [2]. Окраска кристаллического яда взрослых степных гадюк из Крыма характеризуется нами как желтая или интенсивножелтая, что, судя по результатам биохимического анализа, определяется весьма высокими значениями АО; значительно реже яд имеет более яркую золотистую или, напротив, бледно-лимонно-желтую окраску.
По современным представлениям, гадюки равнинно-степного Крыма и заволжских полупустынь относятся к одному подвиду – номинативному. Нельзя исключать, однако, что наблюдаемые различия ферментативных активностей яда в Крыму и Заволжье имеют таксономическое значение. Систематика степной гадюки на сегодняшний день разработана недостаточно, и уже очевидно, что представления о внутривидовой структуре V. renardi в обозримом будущем существенно изменятся. Многие периферические популяции степной гадюки являются высоко специфичными, и в последнее десятилетие с окраин ее обширного ареала (в том числе из Горного Крыма) было описано 4 таксона подвидового ранга и один новый вид [1, 12, 27, 31]. Гадюк южной части Равнинного Крыма отличает ряд морфологических и экологических особенностей: мелкие размеры, яркая окраска, олигомеризованный фолидоз, необычайно высокая – даже в сравнении с популяциями материковой Украины и Предкавказья – плодовитость [9, 10, 15, 24]. Генетическими исследованиями последних лет установлено, что все крымские популяции V. renardi (а не только горнокрымские, как предполагалось ранее) принадлежат к одной митохондриальной гапло-группе, причем для крымских гадюк постулируется независимое происхождение от одной из северокавказских линий (А.И. Зиненко, личное сообщение). Таким образом, наблюдаемые межпопуляционные отличия ядовитого секрета в действительности могут быть отличиями подвидовыми.
В заключение упомянем еще об одной точке зрения на причины изменчивости змеиных ядов. По мнению ряда авторов, ведущим фактором, влияющим на свойства ядов (в том числе на активность некоторых ферментов, например, металлопротеиназ), являются геохимические условия среды – прежде всего концентрация в почвах микроэлементов. Поэтому яды змей из популяций одного вида, обитающих в разных геохимических провинциях, различаются по составу и токсичности [8, 14, 22]. Надо сказать, что феодосийские степи, откуда происходит большая часть использованного в нашей работе материала, в геохимическом отношении представляют собой достаточно монолитную территорию, причем ведущая роль в ее своеобразии, по-видимому, принадлежит грязевому вулканизму [20]. Наслаивающиеся на миоценовые (майкопские) глины отложения сопочной брекчии, содержащей обломки пород миоцена, эоцена и, предположительно, мела, безусловно, могут выступать причиной локальных геохимических аномалий и влиять на геохимическую обстановку местности в целом (см.: [16, 17]). Не исключено, что различия в геохимическом фоне мест обитания гадюк могут накладывать отпечаток и на металлозависимые активности протеолитических ферментов яда – опосредованно, путем избытка или недостатка некоторых металлов и микроэлементов.
Таким образом, изучение свойств змеиных ядов обнажает мощный пласт теоретических проблем. В нашем случае для прояснения ситуации необходимо задействовать в исследовании материал из других пунктов обширного ареала V. renardi – в том числе из чрезвычайно оригинальных популяций Горного Крыма (V. r. puzanovi s. str.) и островных изолятов Западного побережья Крыма и юга Херсонской области.
Список литературы Некоторые биохимические характеристики яда степной гадюки из феодосийских степей (Крым)
- Бакиев А.Г., Гаранин В.И., Литвинов Н.А., Павлов А.В., Ратников В.Ю. Змеи Волжско-Камского края. Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2004. 192 с.
- Бакиев А.Г., Гаранин В.И., Павлов А.В., Шуршина И.В., Маленев А.Л. Восточная степная гадюка Vipera renardi (Reptilia, Viperidae) в Волжском бассейне: материалы по биологии, экологии и токсинологии//Бюл. «Самарская Лука». 2008. Т. 17, № 4. С. 817-845.
- Бакиев А.Г., Литвинов Н.А., Шуршина И.В. О питании восточной степной гадюки Vipera renardi (Christoph, 1861) в Волжском бассейне//Современная герпетология. 2010. Т. 10, вып. 1/2. С. 51-53.
- Бакиев А.Г., Маленев А.Л., Зайцев О.В., Шуршина И.В. Змеи Самарской области. Тольятти: Кассандра, 2009. 170 с.
- Бондарцев А.С. Шкала цветов (пособие для биологов при научных и научно-прикладных исследованиях). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. 27 с.
- Давлятов Я.Д. Некоторые результаты изучения изменчивости ядов змей//Вопросы герпетологии. Л.: Наука, 1985. С. 65.
- Жоголев Д.Т. Ядовитые животные//Тропические болезни. Л.: Медицина, 1973. 510 с.
- Захаров Е.П., Шарыгин С.А. Биогеохимическое и биоиндикационное картирование и безопасность жизнедеятельности. Симферополь: ТЭИ, 1999. 96 с.
- Кармишев Ю.В. Плазуни пiвдня степової зони України (поширення, мiнливiсть, систематика та особливостi бiологiї): Автореф. дис.... канд. бiол. наук. Киев, 2002. 20 с.
- Кукушкин О.В. Распространение, репродуктивные особенности, размерно-возрастная структура и современное состояние популяций степной гадюки, Vipera renardi (Christoph, 1861), в Крыму//Карадаг. История, геология, ботаника, зоология: Cб. науч. тр., посвящ. 90-летию Карадаг. науч. станции им. Т.И. Вяземского и 25-летию Карадаг. природ. заповедника НАН Украины. Кн. 1. Симферополь: СОНАТ, 2004. С. 397-424.
- Кукушкин О.В. Материалы к изучению герпетофауны Восточного Крыма//Летопись природы/Карадагский природный заповедник. Т. 20. 2003 г. Симферополь: СОНАТ, 2004. С. 191-219.
- Кукушкин О.В. Vipera renardi puzanovi ssp. nov. (Reptilia, Serpentes, Viperidae) -новый подвид степной гадюки из Горного Крыма//Современная герпетология. 2009. Т. 9, вып. 1/2. С. 18-40.
- Маленев А.Л., Бакиев А.Г., Шуршина И.В., Зайцева О.В., Зиненко А.И. Протеолитическая активность яда обыкновенных гадюк из некоторых популяций России и Украины//Изв. Самар. НЦ РАН. 2007. Т. 9, № 4. С. 1040-1044.
- Орлов Б.Н., Шарыгин С.А. Некоторые эколого-физиологические аспекты изменчивости состава и свойств ядов амфибий и рептилий//Механизмы действия зоотоксинов. Горький, 1981. Вып. 5. С. 3-16.
- Островских С.В. Биология степной гадюки (Vipera renardi Christoph, 1861) на Северо-Западном Кавказе: Дис. … канд. биол. наук. Краснодар, 2004. 150 с.
- Скорик А.Н., Байраков В.В. Геолого-геохимические особенности алевролитов майкопа Керченского полуострова//Доповiдi Нацiональної академiї наук України. 2007. № 10. 112-117.
- Соболевский Ю.В., Кутний В.А., Кульчецкая А.А. Многослойная конкреция из твердых выбросов грязевого вулкана Джау-Тепе -отражение вертикальной зональности грязевулканического минералообразующего процесса//Геол. журн. 1988. № 1. С. 49-56.
- Табачишин В.Г., Табачишина И.Е., Завьялов Е.В. Современное распространение и некоторые аспекты экологии гадюки Никольского на севере Нижнего Поволжья//Поволж. экол. журн. 2003. № 1. С. 82-86.
- Чикин Ю.А., Щербак Н.Н. Новый подвид гюрзы Vipera lebetina černovi ssp. n. (Reptilia, Viperidae) из Средней Азии//Вестн. зоологии. 1992. № 6. С. 45-49.
- Шнюков Е.Ф., Соболевский Ю.В., Гнатенко Г.И., Науменко П.И., Кутний В.А. Грязевые вулканы Керченско-Таманской области: Атлас. Киев: Наук. думка, 1986. 152 с.
- Daltry J.C., Wüster W., Thorpe R.S. Diet and snake venom evolution//Nature. 1996. V. 37. P. 537-540.
- Friedlich Ch., Tu A.T. Role of metals in snake venoms for hemorrhagic, oesterase and proteolythic activities//Biochem. Pharmacol. 1971. V. 20, № 7. P. 1549-1556.
- Iwanaga S., Suzuki T. Enzymes in Snake Venom//Snake venoms. Ch. IV. Oxford: Pergamon Press, 1977. P. 61-158.
- Kukushkin O.V., Zinenko O. Morphological peculiarities and their possible bearing on the taxonomic status of the Crimean montane populations of the steppe viper, Vipera renardi (Christoph, 1861)//Herpetologia Bonnensis II. Proc. of the 13th Congr. of the Societas Europaea Herpetologica. Bonn: SEH, 2006. P. 61-66.
- McCue M.D. Enzyme activities and biological functions of snake venoms//Applied Herpetology. 2005. № 2. P. 109-123.
- Murata Y., Satake M., Suzuki T. Studies on snake venom. XII. Distribution of proteinase activities among Japanese and Formosan snake venoms//J. Biochem. 1963. V. 53, № 6. P. 431-437.
- Nilson G., Andrén C. The meadow and steppe vipers of Europe and Asia: the Vipera (Acridophaga) ursinii complex//Acta Zool. Academ. Sci. Hungaricae. 2001. V. 47, № 2-3. P. 87-267.
- Starkov V.G., Osipov A.V., Utkin Yu.N. Toxicity of venoms from vipers of Pelias group to crickets Gryllus assimilis and its relation to snake entomophagy//Toxicon. 2007. V. 49, issue 7. P. 995-1001.
- Stümpel N., Joger U. Recent advances in phylogeny and taxonomy of Near and Middle Eastern Vipers -an update//ZooKeys. 2009. V. 31. P. 179-191.
- Tan N.-H., Fung S.-Y. Snake venom L-aminoacid oxidases//Handbook of venoms and toxins of reptiles. Ch. 10. Boca Raton; London; New York: CRC Press; Taylor&Francis Group, 2010. P. 221-237.
- Tuniyev B., Nilson G., and Andrén C. A new species of viper (Reptilia, Viperidae) from the Altay and Saur Mountains, Kazakhstan//Russ. J. Herpetol. 2010. V. 17, № 2. P. 110-120.
- Wellner D., Lichtenberg L.A. Assay of Amino Acid Oxidase//Methods in Enzymology. New York: Academic Press, 1971. V. 17B. P. 593-596.
- Zinenko O.I. Habitats of Vipera berus nikolskii in Ukraine//Herpetologia Bonnensis II. Proc. of the 13th Congr. of the Societas Europaea Herpetologica. Bonn: SEH, 2006. P. 205-209.