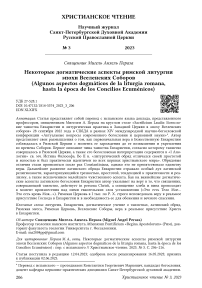Некоторые догматические аспекты римской литургии эпохи Вселенских Соборов (Algunos aspectos dogm'aticos de la liturgia romana, hasta la 'epoca de los Concilios Ecum'enicos)
Автор: Пераза М.А.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Литургика
Статья в выпуске: 3 (106), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой перевод с испанского языка доклада, представленного профессором, священником Мигелем А. Пераза на круглом столе «Sacrificium Laudis: Богословие таинства Евхаристии и литургическая практика в Западной Церкви в эпоху Вселенских соборов» 28 сентября 2022 года в СПбДА в рамках ХIV международной научно-богословской конференции «Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки»*. Автор представляет свои размышления о том, как первоначальная вера в Божественную Евхаристию соблюдалась в Римской Церкви с момента ее зарождения до ее возвышения и укрепления во времена Соборов. Первое описание чина таинства Евхаристии, согласно которому таинство совершалось в Римской Церкви, а также его богословская интерпретация содержится в «I Апологии» св. мч. Истина Философа. Во II в. «литургический обряд отличался своей простотой и ясностью и был практически идентичен во всех церквах христианского мира». Обрядовые отличия стали проявляться после pax Constantiniana, однако это не препятствовало единству веры. Дальнейшее развитие латинского обряда Евхаристии отражало особый дух латинской религиозности, характеризующийся трезвостью, простотой, тенденцией к практичности и реализму, а также исключением малейшего чувственного аспекта. Как на важнейшие догматические аспекты латинского богословия Евхаристии автор указывает на веру в то, что священник, совершающий таинство, действует in persona Christi, а освящение хлеба и вина происходит в момент произнесения над ними евангельских слов установления («Это есть Тело Мое… Это есть кровь Моя…»). Римская Церковь в I тыс. по Р. Х. строго исповедовала веру в реальное присутствие Господа в Евхаристии и в необходимость ее для обожения и вечного спасения.
Литургия, евхаристия, догматическое учение о таинствах, латинский обряд, римская месса, римская церковь, вселенские соборы, вера в реальное присутствие христа в евхаристии
Короткий адрес: https://sciup.org/140300879
IDR: 140300879 | УДК: 27-528.1 | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_3_206
Текст научной статьи Некоторые догматические аспекты римской литургии эпохи Вселенских Соборов (Algunos aspectos dogm'aticos de la liturgia romana, hasta la 'epoca de los Concilios Ecum'enicos)
Тайна Евхаристии понимается всеми Церквами апостольской традиции как «ядро тайны Церкви»1, которая установлена Господом «в ту ночь, в которую предан был (in qua nocte tradebatur)» (1 Кор 11:23) ради нашего спасения, «по Его великой любви (ob suæ eximiæ caritatis indicium)» (Еф 2; 4:4), ради нашего подлинного причастия Его Божественной жизни (θέωσις). В Евхаристии мы видим действительное и животворное присутствие Бога, реализованное уникальным и несравненным образом, залог обетования Господа2. Мы хотим в общих чертах проследить, как первоначальная вера в Божественную Евхаристию соблюдалась в Римской Церкви с момента ее зарождения до ее возвышения и укрепления во времена Соборов.
Самое раннее известное описание литургии в точности соответствует римской литургии, и им мы обязаны св. мч. Иустину. Он поселился в Риме, где открыл философскую школу. В своей «I Апологии» он кратко описывает литургию, как она совершалась в этом городе. Мученик Иустин написал «Апологию» около 155 г., когда гонения были еще далеки от завершения и задолго до того, как он сам пролил свою кровь в середине II в. В этом тексте мы находим два важных свидетельства. Первое касается сути веры:
Пища эта у нас называется Евхаристией (благодарением), и никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует в истину учения нашего и омылся омовением в оставление грехов и в возрождение, и живет так, как предал Христос. Ибо мы принимаем это не так, как обыкновенный хлеб или обыкновенное питье: но как Христос, Спаситель наш, Словом Божиим воплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего, таким же образом пища эта, над которой совершено благодарение через молитву слова Его, и от которой через уподобление получает питание ваша кровь и плоть, есть — как мы научены — Плоть и Кровь того воплотившегося Иисуса. Ибо апостолы в написанных ими сказаниях, которые называются Евангелиями, предали, что им было так заповедано: Иисус взял хлеб и благодарил и сказал: это делайте в Мое воспоминание, это есть Тело Мое; подобным образом Он взял чашу и благодарил и сказал: это есть Кровь Моя, и подал им одним3.
Второе указание касается литургического обряда (день, структура, практическая организация…):
С того времени мы между собою всегда делаем воспоминание об этом. И достаточные из нас помогают всем бедным, и мы всегда живем заодно друг с другом. За все получаемые нами благодеяния мы прославляем Создателя всего, через Сына Его Иисуса Христа и через Духа Святого. В так называемый день солнца бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам или селам; и читаются, сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам. Затем все вообще встаем и воссылаем молитвы. Когда же окончил молитву, тогда, как я выше сказал, приносится хлеб, и вино, и вода; и предстоятель также воссылает молитвы и благодарения, сколько он может. Народ выражает свое согласие словом — «аминь», и бывает раздаяние каждому и приобщение Даров, над коими совершено благодарение, а к небывшим они посылаются через диаконов. Достаточные же и желающие, каждый по своему произволению, дают, что хотят, и собранное хранится у предстоятеля: а он имеет попечение о сиротах и вдовах, о всех нуждающихся по болезни или по другой причине, о находящихся в узах, о странниках издалека, вообще печется о всех находящихся в нужде. В день же солнца мы все вообще делаем собрание, потому что это есть первый день, в который Бог, изменивши мрак и вещество, сотворил мир, и Иисус Христос, Спаситель наш, в тот же день воскрес из мертвых4.
На этой ранней стадии развития порядок совершения Таинства, предположительно, был одинаковым во всем христианском мире. Действительно, М. Ригетти отмечает, что:
…когда св. Поликарп Смирнский прибыл в Рим, чтобы обсудить с папой Аникитой († 166) вопрос о Пасхе, он смог, по приглашению самого папы, сослужить вместе с ним. Это свидетельствует о том, что и в Азии, и в Риме евхаристический ритуал был более или менее единообразным [Righetti, 1998, I, 103; Basurko, 2006, 97].
Литургический обряд отличался своей простотой и ясностью и был практически идентичен во всех Церквах христианского мира. Определенного формуляра еще не существовало, но, исходя из того, что было воспринято от Господа (как выражается апостол в 1 Кор 11:23-27), использовались свободные, спонтанные формулы, в соответствии с благочестием, культурой и интерпретацией православной веры епископом. Однако вскоре необходимость определенного чина и целесообразность установления молитвенных формул и стандартных фраз стала очевидной, что мы и находим в трактате Traditio apostolica , предположительным автором которого считают сщмч. Ипполита Римского (ок. 170–235):
И епископ пусть возносит благодарение, согласно нашему предписанию. Нет никакой необходимости, чтобы он повторял те же самые слова, которые мы говорили раньше, и заучивал их наизусть, вознося благодарение Богу; но каждый пусть молится по своей возможности. Если же кто-нибудь имеет возможность помолиться долгой и возвышенной молитвой, то это хорошо. Но если кто-нибудь, молясь, произносит умеренную молитву, согласно закрепленному образцу, то не препятствуйте ему. Только пусть его молитва будет здравой и правильной в учении (Апостольское предание, 9)5.
Уже после III в., и тем более со времени pax Constantiniana, стали проявляться обрядовые различия, наряду с акцентами богословского развития, в великих центрах мысли, в первую очередь в Александрии и Антиохии. Также в Риме начала формироваться собственная обрядовая традиция. Если в первоначальном укладе чувствовалось семитское или восточное влияние, то мало-помалу латинское христианство стало иметь свой собственный характер, передававшийся в провинции, находящиеся под церковной юрисдикцией и культурным влиянием Рима. С другой стороны, гонения еще больше затрудняли отношения различных Церквей друг с другом, и в то же время возрастало число великих личностей — отцов Церкви — в различных регионах. Однако это растущее разнообразие не считалось препятствием к единству веры6. С другой стороны, более крупные митрополии стремились осуществлять контроль над малыми Церквами в различных церковных сферах, чтобы сохранить единство и в богослужении. Опять же, Ригетти отмечает, что именно во время Первого Вселенского Собора (Никея, 325) литургическое разнообразие уступило место типам, которые позже были объединены в «литургические семьи»7. В случае с римской литургией очень обширная юрисдикция Римской Церкви, охватывавшая больше половины Европы, привела к появлению практик и обычаев, которые контрастировали с теми, что были получены от материнской Церкви. Таким образом, в латинской литургии стали выделяться два направления: африкано-римское, характерное для великих митрополий, и галликанское — в провинциях с преимущественно варварским населением (с четырьмя основными формами: испано-мосарабской, амброзианской, кельтской и собственно галликанской). Однако сейчас нас интересует только римская версия и, в частности, выделение определяющего ее догматического ядра.
Латинское христианство, утвердившееся уже с конца II в., даже в условиях греческого культурного превосходства развивалось на основе древнеримской литургии, характеризующейся трезвостью, простотой, тенденцией к практичности и реализму, а также исключением малейшего чувственного аспекта. Эта последняя характеристика будет особенно подчеркнута евхаристическим богослужением начиная со Средних веков и, позднее, сакраментальной теологией Трентского Собора, против протестантской Реформации. Хотя в первые века существования империи преобладала греческая культура, литургический язык, используемый в Риме, был не изысканным аттическим диалектом, а популярным κοινή. Провинции Африки, со своей стороны, внесли свой вклад, став второй родиной римской литургии, на которую повлияли прежде всего латинские отцы и церковные писатели, такие как св. Киприан, Тертуллиан, блж. Августин, Арнобий, Лактанций. Так что литургия, вероятно, перешла с греческого на латынь в Африке раньше, чем в Риме, уже в конце II в. (см.: [Righetti, 1998, I, 165]). В Риме, с другой стороны, языковые изменения были более постепенными8, но и более устойчивыми. Рудиментарное язычество многих варварских народов ранее было вытеснено утонченным и прагматичным римским язычеством, которое давало им определенное единство и возможность прогресса; затем произошло обращение в христианство, которое повсеместно утвердило многовековое литургическое использование латыни на всем Западе (в отличие от Востока, где литургия совершалась на национальных языках). До сих пор во Граде (Риме) сохраняется древний обычай пения Евангелия на латинском и греческом языках во время торжественной папской литургии.
Дисциплинарной особенностью римской литургии является повторное совершение одним и тем же священником в один и тот же день. До IV в. было принято, чтобы литургия в праздничные дни была одна. Единая Жертва на едином алтаре. Восток сохранил эту древнюю практику. Однако в V в. число верующих было огромным, отчасти благодаря обращению целых варварских народов. С осознанием присутствия Господа и совершенства самого величественного из таинств ( Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес (qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de calis) ) в это время была установлена «воскресная заповедь» (el precepto dominical)9, для исполнения которой было недостаточно одной Мессы, особенно в скромных сельских храмах или небольших городских центрах. Таким образом, причина установления повторного служения мессы была обусловлена икономией (принципом снисходительности) и пастырской заботой, при том условии, что оно будет необходимой мерой pro salute (ради спасения) верующих. Святой Лев Великий так объясняет это патриарху Александрийскому Диоскору:
Для того, чтобы мы соблюдали все обычаи в согласии, мы также желаем, чтобы сохранилось следующее: когда более торжественное празднество предполагает участие большого числа верующих, но народу собралось больше, чем вмещает базилика, приношение Жертвы должно быть обязательно повторено. Чтобы не было такого, что только те, кто пришел первыми, были допущены к богослужению, а множество народа, пришедшее позже, уже не найдет места для входа. Поэтому нам кажется достойным всякого благочестия и здравого смысла приносить Жертву каждый раз, когда базилика наполняется вновь пришедшими10.
Таким образом, предписание св. Льва Великого по существу соответствует вере в реальное присутствие Господа в Евхаристии и в необходимость ее для обожения и вечного спасения. Несмотря на объяснение, этого обычая придерживались только в Риме, но это не было тогда предметом для распри или спора ни с Александрией, ни с любым из восточных патриархатов, чьи пастырские нужды были иными.
Мы должны признать, что древность римской литургии объясняет смутность исторической картины ее происхождения. Самые древние из сохранившихся записей фрагментарны и происходят из манускриптов VIII–IX вв. Из заметных древних документов самым важным, несомненно, является Canon Romanum. С тех пор канон остался практически неизменным (см.: [Jungmann, 2004, 43]), что придает ему особую значимость, настолько, что, в отличие от всех восточных традиций, он был единственной анафорой римского обряда с этого времени и до реформы II Ватиканского Собора. Хотя канон, несомненно, возник в Риме, его редакционный генезис не совсем ясен. Сейчас не время рассматривать этот аспект, однако стоит обратить внимание на догматический характер текста канона. Святой Амвросий в IV в. заметил, что все, что в литургии предшествует канону, — это человеческие слова, тогда как канон погружает нас в Божественную тайну:
Возможно, ты скажешь: «Это обычный хлеб». Но этот хлеб является обычным хлебом только до слов освящения (verba sacramentorum). Как только наступит время освящения (consecratio), из хлеба он станет Телом Христовым. <…> Как этот хлеб может быть Телом Христовым? А освящение совершается какими словами и чьими речами? Господа Иисуса. Ибо все то, что произносится прежде, произносится от священника: прославление Бога, молитва, прошение за народ, за царей и за все остальное. Но как только приближается время совершения честного таинства, священник уже употребляет не свои слова, но произносит слова Христовы. Следовательно, слово Христа совершает это таинство11.
Святой Амвросий, по сути, является одним из отцов, утвердивших латинское учение о том, что священник, совершая таинства, и особенно посвящение во время Евхаристической литургии, действует in persona Christi12.
Пока канон обретал свою законченную форму, римская литургия также достигла своего собственного и общепринятого порядка, со своим характерным вероучительным содержанием. В такой унификации были заинтересованы все территории, находившиеся под церковной юрисдикцией Рима, пусть и ценой отказа от своих собственных или особых литургических обрядов, о которых мы упоминали выше. Юнгманн отмечает важную причину:
Пятый век был временем больших несчастий для Рима, а следующий век (с нападением готов и вторжением лангобардов) был периодом бедствий и постоянной угрозы. Однако именно в это время римская месса развивалась все более и более интенсивно. Этот факт зависел от чрезвычайного уважения, которым в то время пользовались папство и Церковь в Вечном городе. Папство стало «единственной славой и единственной гордостью римского народа» [Jungmann, 2004, 51].
Папа считался защитником христианской веры и защитником обездоленного и страдающего населения13. Таким образом, наряду с простыми и незамысловатыми богослужениями в различных титулярных церквах14, все большее значение приобретала папская литургия.
Именно тогда появились стациональные мессы, которые понтифик совершал в главных церквях Града. Слово statio обозначало собрание во главе с епископом в определенный день и в храме определенной важности. На этих мессах с большой помпой присутствовали патриции и народ, которые съезжались со всех концов города и даже из сельской местности. Эта благочестивая практика продолжается в наши дни во время Великого поста, начиная с покаянной литургии Пепельной среды, процессия которой отправляется из монастыря Сан-Ансельмо, а затем проходит в древней церкви Санта Сабина на Авентинском холме.
Стациональные торжественные мессы развивались в течение VII–VIII вв. и вскоре приобрели особое значение в литургической истории. Они способствовали почитанию мучеников, мощи которых хранились в соответствующей стациональной церкви. Почитание святых мучеников фактически является продолжением раннего христианства.
Важнейшим деятелем этого периода был св. Григорий Великий (590-604), энергичный реформатор, предпринявший труд кодификации римской литургии. Его деятельность открывает целый период церковной истории вплоть до Григория VII. Он родился в знатной семье, его изысканное культурное образование привело к тому, что в молодости он был избран на пост префекта15. Несмотря на свои личные успехи, он предпочел монашескую жизнь. Папа Пелагий II посвятил его в сан диакона и назначил апокрисиарием (ἀποκρισιάριος), что примерно соответствует должности папского легата или нынешнего апостольского нунция при императорском дворе Константинополя. Когда Пелагий II умер, он был избран епископом Рима по всеобщему согласию. Святой Григорий Великий поддерживал практику совершения месс в стациональных церквах, придавая им большую пышность и великолепие. Таким образом, верующие из разных районов города сближались и собирались вокруг святого, имеющего для них особое значение. Именно в таких случаях св. Григорий произносил свои поучения и проповеди. Во время его понтификата практика стациональных месс распространилась на другие, даже отдаленные провинции. Он также упростил структуру мессы и молитв, поместил «Отче наш» после заключительной доксологии канона и перед fractio panis, включил диптихи (поминовения имен) в канон и приветствие мира (pax) в чин причащения. С тех пор эти элементы отличают римскую литургию от всех восточных литургий и даже от галликанской и испано-мосарабской литургий. Он также способствовал созданию schola cantorum, которая придавала литургии большее великолепие. Он способствовал распространению почитания икон, хотя на Востоке пока еще не разгорелась иконоборческая борьба. Он поощрял две формы участия верующих в мессе: принесение приношений и причащение под двумя видами.
Однако в этот период вера в реальное присутствие Христа в Евхаристии еще не предполагала евхаристического почитания вне мессы, и крепость этой веры еще не требовала богословских аргументов, доказывающих реальное присутствие Тела и Крови Господа. Последняя вероучительная особенность, которая кристаллизовалась в этот период, заключается в том, что литургические молитвы, глубоко отмеченные христологией Халкидона, всегда были обращены к Отцу, через Христа, в Святом Духе, в отличие от других литургий, которые иногда обращены непосредственно к Иисусу Христу. Основными чертами римской литургии остаются трезвость, краткость и доктринальная точность.
Вскользь упомянем последний характерный элемент римской литургии, происхождение которого неизвестно, но появление которого зафиксировано вскоре после этого периода. Это использование пресного хлеба, также распространенное среди армян. Предположительно, в Евангелиях говорится об обычном квасном хлебе (по крайней мере, если следовать Евангелию от Иоанна, в котором Тайная Вечеря предшествует пасхальной трапезе и не отождествляется с ней; см.: [Raffa, 2003, 390]), но нет возможности узнать или доказать, использовали ли апостолы квасной или пресный хлеб в ранних Fractio panis , или придавали ли они этому вопросу какое-то особое значение. С другой стороны, это была значительная деталь в иудейском ритуале пасхальной трапезы16.
Святой Павел придал этому еврейскому ритуальному предписанию духовное значение, отнеся его к Христу17. В этой связи Ригетти отмечает следующее:
До VIII в. ни одно из свидетельств авторов, упоминающих о хлебе, используемом в мессе, не было настолько явным, чтобы точно указать его состав. Все они ограничиваются общими словами, что это был обычный хлеб, хлеб, который люди ели каждый день. Хлеб, который обычно выпекали с дрожжами, чтобы он легче переваривался и усваивался [Righetti, 1998, III, 52].
Первое ясное свидетельство на Западе об использовании пресного хлеба на мессе содержится в письме Ad fratres Lugdunenses, написанном Алкуином в 798 г.:
«Вы должны приготовить хлеб для освящения Тела Христова без закваски, он должен быть пресным». С тех пор мы знаем, что дисциплина начала двигаться в этом направлении. Что послужило причиной этого? Кардинал Бона утверждает, что практика жертвоприношения со стороны верующих и их последующего причащения была утрачена. Пока именно они готовили хлеб для приношения и освящения, они делали это дома, как квасной хлеб, который ели каждый день. С другой стороны, когда в период Каролингов приготовление евхаристического хлеба стало практически монополией священников и монахов, евангельская и символическая идея пресного хлеба, каким его освятил Христос, легко прижилась и постепенно возобладала [Righetti, 1998, III, 883–884].
В целом, у нас нет убедительных сведений о происхождении употребления опресноков, ни о том, когда оно возникло, ни о причинах, вызвавших его появление. К сожалению, несомненно, что полемика с Восточными Церквами возникла поздно и не совсем в условиях мирных братских отношений.
Подводя итог, можно отметить, что самые авторитетные ученые согласны признать существенную подлинность не только догматического содержания, но и преемственность в практике Римской литургии, начиная с ее истоков [Righetti, 1998, III, 118].
Помимо академической серьезности данной встречи, я хотел бы также с благодарностью Триединому Богу отметить еще одно обстоятельство, которое собрало нас вместе, несмотря на нашу человеческую слабость (ср. 1 Ин 4:19; Рим 5:8). Это взаимное согласие с тем, что Святая Евхаристия — это дар, за который мы никогда не сможем в полной мере возблагодарить Господа. Сегодня я бы хотел напомнить еще раз исповедание св. Николая Кавасилы: «Так совершенно сие таинство, высшее всякого таинства, и приводит к самой вершине благ; потому и всякой человеческой ревности последний предел здесь же. Ибо в нем мы сообщаемся с самим Богом, и Бог соединяется с нами совершеннейшим единением»18.
Мы благодарим нашего Господа и Его Пречистую Матерь за желание добиваться восстановления неразделенной веры первого христианского тысячелетия в то, что свв. отцы считали самым существенным и священным в Церкви.
Спасибо за ваше внимание.
Список литературы Некоторые догматические аспекты римской литургии эпохи Вселенских Соборов (Algunos aspectos dogm'aticos de la liturgia romana, hasta la 'epoca de los Concilios Ecum'enicos)
- Ecclesia de Eucharistia - Иоанн Павел II, Папа. Энциклика "Ecclesia de Eucharistia" 1 // Acta Apostoliae Sedis (AAS). 2003. No. 95/7. URL: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_eccl-de-euch.html (дата обращения: 21.07.2023).
- Basurko (2006) - Basurko X. Historia de la liturgia. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica, 2006.
- Jungmann (2004) - Jungmann J. A. Missarum sollemnia: Eine genetische Erklärung der Römischen Messe. Milano: Àncora, 2004 (edizione anastatica).
- PG - Patrologiæ Cursus Completus. Series Græca: en 161 t. / Ed. Par J.-P. Migne. Paris, 1857-1866.
- PL - Patrologiæ Cursus Completus. Series Latina: en 217 t. / Ed. Par J.-P. Migne. Paris, 1844-1855.
- Raffa (2003) - Raffa V. Liturgia eucaristica. Mistagogia della Messa: dalla storia e dalla teologia alla pastorale pratica. Roma: Centro Liturgico Vincenziano, 2003.
- Righetti (1998) - Righetti M. Manuale di storia liturgica: in IV vols. Milano: Àncora, 1998 (edizione anastatica).
- Катихизис Католической Церкви - Катихизис Католической Церкви. URL: http://ccconline.ru/ (дата обращения: 21.07.2023).
- Ипполит Римский (2015) - Ипполит Римский, сщмч. Апостольское Предание. М.: Сибирская Благозвонница, 2015.