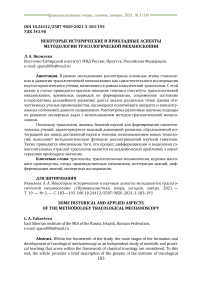Некоторые исторические и прикладные аспекты методологии трасологической механоскопии
Автор: Яковлева Л.А.
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность
Статья в выпуске: 3 (19), 2021 года.
Бесплатный доступ
В рамках исследования рассмотрены основные этапы становления и развития трасологической механоскопии как самостоятельного исследования научно-практического учения, возникшего в рамках классической трасологии. С этой целью в статье приводится краткое описание генезиса института трасологической механоскопии, временных периодов ее формирования, современное состояние и перспективы дальнейшего развития; дается анализ различных точек зрения отечественных ученых-криминалистов, касающихся понятийного аппарата и концептуальных положений данного направления. Рассмотрены различные научные подходы по решению экспертных задач с использованием методов трасологической механоскопии. Поскольку трасология, являясь базовой наукой для формирования самостоятельных учений, характеризуется высокой динамикой развития, обусловленной интеграцией все новых достижений науки и техники, возникновением новых технологий, выполняет методологическую функцию рассматриваемой научной тематики. Также приводится обоснование того, что процесс дифференциации и выделения самостоятельных отраслей трасологии является не академической проблемой, а имеет серьезное прикладное значение.
Трасология, трасологическая механоскопия, изделия массового производства, следы производственных механизмов, интеграция знаний, дифференциация знаний, экспертные исследования
Короткий адрес: https://sciup.org/143178220
IDR: 143178220 | УДК: 343.98 | DOI: 10.24412/2587-9820-2021-3-183-193
Текст научной статьи Некоторые исторические и прикладные аспекты методологии трасологической механоскопии
Согласно основным положениям диалектической теории отражения, все предметы и явления объективной реальности находятся в непрерывном движении и взаимодействуют друг с другом, в результате чего в некоторых случаях можно наблюдать процессы взаимного изменения объектов и других участников взаимодействия. Вместе с тем субъекты и объекты возникающих взаимодействий обладают как объединяющими, так и различающимися признаками, которые отражаются на участниках совместного движения и оказывают друг на друга различное влияние.
Данные утверждения в полном объеме нашли свое отражение и в трасологии. Они составляют концептуальные положения её теоретической основы как самостоятельной отрасли криминалистической техники, изучающей закономерности возникновения, фиксации, изъятия, исследования и использования материальных следов, а также занимающегося разработкой на их основе различных рекомендаций, приемов, методов и средств для практических органов правоохранительной системы в целях борьбы с преступностью [1, с. 141]. Соответственно, трасология не рассматривается как нечто застывшее, раз и навсегда данное, она является областью специальных знаний, характеризующейся высокой динамикой своего развития.
В настоящее время просматриваются два основных магистральных направления развития трасологии, при развитии каждого из которых возникают свои специфические проблемы. Первое направление связано с самопознанием, т. е. с дальнейшим развитием трасологии как раздела криминалистической техники. Второе — заключается в создании самостоятельных учений, частных теорий, которые на современном этапе развития криминалистической техники вполне логичны и обоснованы.
Процесс развития трасологии характеризуется своего рода цикличностью. Так, на некоторых этапах наблюдалось некое топтание на месте, однако происходили и альтернативные процессы, в результате которых обобщались теоретические положения и эмпирические данные с последующим возникновением на этой основе теорий более высокого уровня. Большое значение при этом сыграло накопление существенного объема фактов, позволяющих устанавливать новые связи между свойствами объектов исследования во всех их проявлениях.
Сегодня особую актуальность приобретает необходимость выделения в системе трасологии самостоятельного научно-практического учения — трасологической механоскопии. Далее рассмотрим существующие проблемы, наличие которых способствовало дифференциации научного знания в историческом и научном аспектах.
Мнения о целесообразности выделения в системе трасологии самостоятельного учения — трасологической механоскопии высказывались отечественными учеными-криминалистами достаточно давно. Обоснование данной позиции строилось на том, что теоретические и прикладные разработки в области механоскопиче-ских экспертиз существенным образом отставали от уровня развития классической трасологии в целом, что приводило к негативным последствиям в виде возникновения трудностей при исследовании объектов механоскопических экспертиз.
В практике производства трасологических экспертиз нередко перед экспертом ставилась задача по исследованию следов производственного происхождения на объектах, представляющих собой промышленные изделия. Данные следы представляют собой типичные следы-отображения, в связи с этим для их исследования было принято использовать методики, разработанные ранее. Интересно отметить, что на ранних этапах своего развития механоскопическая экспертиза отождествлялась с экспертизой производственных следов, особенность которой заключалось в том, что рабочие части производственных механизмов, контактирующие с изделием в процессе его изготовления, занимают устойчивое, заранее заданное положение, за счет чего обеспечивается единообразие отображения внешнего строения следообразующих объектов. Именно это обстоятельство явилось предпосылкой к выделению данных следов в отдельную группу.
Перечисленные обстоятельства делали процесс идентификации промышленной установки более сложным, поскольку однотипные установки изготавливаются и приводятся в действие в соответствии с едиными техническими условиями. С другой стороны, образование комплекса следов рабочих частей механизма приводит к стабильному отображению признаков, что обусловливает их большую информативность. Таким образом, методика механоскопической экспертизы должна обладать специфическими особенностями и отличаться от иных, уже имеющихся и достаточно разработанных методик классической трасологии.
Однако данные положения носили дискуссионный характер и мнения многих ученых по данному вопросу до сих пор остаются противоречивыми, на что имеются свои объективные причины, определяемые историческими аспектами развития трасологии в целом.
Терминология механоскопических экспертиз основана на многочисленных научных трудах, опубликованных в конце 50-х годов прошлого столетия, посвященных криминалистическому исследованию следов производственного происхождения на обуви, автомобильных покрышках, канцелярских скрепках, пуговицах, гвоздях, папиросах, тканях и др.
Появление этих объектов в сфере уголовного судопроизводства было вызвано рядом причин, основная из которой — научно-технический прогресс промышленного производства, происходящий в экономике страны в то время. За счет появления новых послевоенных специализированных предприятий, ориентированных на выпуск гражданской продукции широкого потребления, первых автоматизированных поточных линий резко увеличился оборот изделий, которые в то же время являлись дефицитным товаром в отдельных регионах страны или определенных местностях. Данные обстоятельства привели к тому, что эти и другие предметы все чаще фигурировали в качестве вещественных доказательств по фактам хищения, неучтенного выпуска или незаконного оборота промышленной продукции.
Позднее в этот список также попали специфические «воровские» инструменты, орудия взлома, холодное и огнестрельное оружие, изготовленное на заводском металлорежущем оборудовании [2, с. 3]. Необходимость их механоскопиче-ского экспертного исследования была вызвана запросами следственной и судебной практики. Практические работники экспертных подразделений должны были располагать новыми средствами и методами, позволяющими не только идентифицировать предмет по следам, но и установить его происхождение.
Несмотря на то, что работы научно-прикладного характера тех лет были актуальными и востребованными экспертной практикой, они в большинстве своем содержали методические рекомендации по исследованию отдельных объектов, не являлись комплексными или взаимосвязанными. Попытки создания унифицированной методики механоскопических исследований на основе анализа и систематизации разработанных методов исследования широкого перечня объектов экспертизы, не принесли ожидаемого результата. В связи с этим улучшение качества экспертных исследований и повышение достоверности экспертных выводов связывалось, и совершенно справедливо, с комплексным подходом к исследованию изделий массового производства. Другими словами, механоскопическая экспертиза «делила» свои объекты между экспертами-трасологами и экспертами, осуществляющими исследования веществ, материалов и изделий.
Назначая механоскопическую экспертизу промышленных изделий, следственные органы предварительно получали справочную информацию о наличии на исследуемом образце следов-отображений внешнего строения рабочих частей производственного механизма, пригодных для идентификации. Если таковые имелись, то изделие становилось объектом трасологической экспертизы. В противном случае назначалась криминалистическая экспертиза веществ, материалов и изделий. В случае невозможности решения экспертной задачи методами экспертизы одного рода назначалась комплексная экспертиза. Как правило, такие исследования проводились экспертной комиссией, большинство членов которой являлись трасологи и материаловеды. К исследованиям также привлекались другие специалисты, имеющие специальные знания в области технических наук, технологии производ- ства и товароведения. Поэтому результаты исследования оформлялись в виде заключения комплексной экспертизы, содержащей общий вывод с ответом на поставленные вопросы.
Необходимо отметить, что первоначально экспертами были предприняты попытки исследования признаков объектов, характеризующих материал их изготовления, однако это не привело к получению ожидаемых результатов, поскольку к тому времени методы криминалистического исследования материалов были развиты слабо. В процессе проводимых исследований было возможно только определение качественного сходства компонентов, входящих в состав материала, и эксперт мог констатировать однородность сравниваемых между собой объектов по химическим и физическим свойствам. Кроме того, участники судопроизводства сталкивались с трудностями при оценке доказательственного значения таких экспертиз.
Существенное развитие методов криминалистического исследования веществ и материалов было достигнуто в более поздний период. Так, например, С. Ш. Касимова, сделав упор на изучении технологии промышленного производства, пришла к выводу о возможности установления общего источника происхождения таких изделий массового производства как: нити мулине, лаковая кожа, резиновая тесьма, листовые зеркала, а также разработала методические рекомендации по экспертному исследованию этих объектов. В. С. Митричев аналогичным путем смог обосновать методику криминалистического исследования стекла фарных рассеивателей, дроби, а также других, достаточно часто встречающихся в экспертной практике объектов.
В настоящее время технологии экспертных исследований веществ, материалов и изделий значительно усовершенствованы. Благодаря теоретическим разработкам стало возможным решение традиционных трасологических задач, основанных на исследовании субстанционального поля идентифицируемых объектов. Опытным путем было доказано, что «идентифицировать транспортное средство можно не только по следам, отобразившим внешнее строение автомобиля в обстановке места происшествия, но и в результате криминалистического материаловедческого исследования отделенной от транспортного средства частицы лакокрасочного покрытия» [3, с. 50].
При этом практика показывает, что максимальные результаты могут быть получены при комплексном подходе к использованию информации, содержащейся в морфологическом и субстанциональных полях исследуемых объектов. В связи с тем, что исследование этих полей возможно только в рамках комплексных трасологических и материаловедческих экспертиз, в развитии трасологии сформировалась вполне закономерная тенденция — интеграция знаний и появление новых родов и видов экспертиз. В настоящее время среди ученых не существует разногласий по поводу того, что в этом направлении взаимообусловленность естественной и гуманитарной наук очевидна и необходима, а интегрированные знания позволят сформулировать новую теорию и поднять экспертные исследования на более высокую ступень.
Не подвергая сомнению необходимость и полезность процесса интеграции научных знаний, следует отметить, что изучение морфологического и субстанционального полей не позволяет в полной мере реализовать информацию, которую несут в себе изделия массового производства. Речь идет о выпадении из информационного пространства функциональных свойств промышленных установок, связанных с определенными действиями (навыками) рабочего или отражающих особенностей технологического процесса. Кроме того, субстанциональные признаки производственного происхождения, пригодные для решения идентификационных механоскопических задач, отображаются на изделиях массового производства далеко не всегда. В основном готовые изделия содержат субстанциональные признаки, связанные со структурным и химическим составом материалов и веществ, использующихся в качестве сырья, заготовок, в виде расходных материалов (проволока, полимерная пленка, листовое стекло) и для нанесения поверхностных покрытий. Поэтому комплексный подход в рамках трасолого-материаловедческой экспертизы позволяет повысить качество исследований, направленных на установление, в основном, единого целого по фрагментам и частям или источника происхождения изделия. В данном случае под источником происхождения следует понимать некоторые производственные структуры (предприятие, цех), которые в целом отличаются своеобразием субстанциональных свойств, например, полученной партией сырья определенного структурного состава, химическим составом краски, использующейся для окрашивания изделий, использование определенной смазки для упаковки изделий и пр.
Очевидно, что отдельно взятая единица технологического оборудования не привносит в этот набор своих собственных свойств. Поэтому второй этап решения идентификационной задачи — индивидуальная идентификация конкретного технологического оборудования, проводится на основе исследования все тех же традиционных морфологических признаков, отобразившихся в следах обработки.
В этой связи особенно ценным представляется положение, выдвинутое в 1968 году Е. И. Зуевым, обусловливающее дальнейшее развитие концептуальных основ трасологической механоскопии, а затем более подробным образом изложенное ученым-криминалистом Г. Л. Грановским. Данное положение касалось общих принципов возможности отождествления производственных механизмов. Суть обоснования изложенной ими концепции состояла в том, что в основе криминалистического исследования изделий массового производства, как и других категорий объектов исследования, состоит в их неповторимости. Любая производственная установка представляет собой составное целое, поскольку состоит из совокупности деталей и механизмов, включающее в себя составные элементы с индивидуальным комплексом признаков, характеризующих их внешнее строение. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что изделия массового производства одного вида, изготовленные на разных предприятиях, либо на аналогичном оборудовании, хотя и имеют сходство, обусловленное государственными стандартами или техническими условиями, обладают различиями в следах частей производственных механизмов, используемых при их производстве.
Многим позже, в 1992 году А. Г. Скоморохова провела исследование, посвященное анализу проблем развития трасологической механоскопии, по результатам которого было сказано, что «метод научно-практического исследования в виде разработки методик в отношении конкретных видов изделий и механизмов не дал цельного представления о следах производственных механизмов» [4, с. 91].
Фактический уровень развития механоскопии, как самостоятельного учения, Р. С. Белкин характеризовал как этап накопления опыта с применением начальных положений этой науки. Далее им было высказано утверждение, что особенность следующего этапа развития научного знания должна заключаться в систематизации и обобщении собранного материала с дальнейшим конструированием теории, отражающей предмет познания и открывающей перспективы развития науки [5, с. 202—203].
В литературе, посвященной вопросам механоскопии, до сих пор встречаются весьма разночтивые мнения ученых, касающиеся определения ее предмета, объекта и задач.
Г. Л. Грановский был первым, кто предложил использовать термин «механоскопия». По его мнению, задача данного направления — это разработка приемов и криминалистических средств индивидуальной идентификации и неидентификационных исследований орудий, механизмов и иных предметов. Также им была разработана классификация следообразующих объектов, в соответствии с которой они подразделялись на орудия и механизмы. Орудия представляли собой предметы, функционирование которыхнепосредственно связано действиями человека: зубило, молоток, стеклорез и т. п., а к механизмам были отнесены устройства, функционирование которых преимущественно зависит от взаимодействия составных элементов и конструктивных свойств и не определяется действиями человека: гвоздильный аппарат, каландр, экструдер, станок для обработки древесины, металлорежущий станок, бумагоделательная машина и др.
Следующим основанием в предложенной классификации был выбран способ воздействия, и следообразующие объекты были разделены на две группы: механические и термические.
И. И. Пророков имел несколько иное видение рассматриваемой проблематики. Исследованиям данного направления он предложил название «экспертиза производственных механизмов на изделиях», а к объектам механоскопических исследований причислил следы технических устройств, возникшие в процессе производства, как на готовых изделиях, так и на полуфабрикатах [6, с. 181—185]. При производстве экспертных исследований было предложено использовать морфологические признаки внешнего строения контактирующих поверхностей производственных механизмов на основе имеющихся общих принципов трасологии.
По его мнению, в рамках производства данной экспертизы возможно решение двух видов задач: определение источника происхождения, а также установление однородности изделий.
Ключевое отличие этих задач заключается в том, что в первом случае идентифицируемые объекты поступают в распоряжение эксперта, и источник происхождения устанавливается в процессе идентификации деталей конкретной промышленной установки. Во втором случае на экспертизу предоставляют лишь несколько идентифицирующих объектов, притом, что идентифицируемый объект мог быть и неизвестен.
Следует отметить, что последняя задача нехарактерна для трасологии. Более того, при установлении пригодности следов для идентификации эксперт, как правило, всегда запрашивает проверяемый объект либо формулирует условный вы- вод о том, что установить пригодность к идентификации можно при условии предоставления объекта. Здесь прослеживается вполне отчетливая аналогия с судебнобаллистической экспертизой. При ответе на вопрос, например, «Не из одного ли экземпляра огнестрельного оружия стреляны гильзы, представленные на исследование?» эксперт, в случае положительного решения, также может и не знать о местонахождении или существовании данного экземпляра оружия. Эта аналогия не случайна и связана с тем, что огнестрельное оружие, по сути, представляет собой механизм с заранее определенным расположением следообразующих деталей и достаточно стабильным процессом следообразования. Его работа в штатном режиме не зависит от действий человека. Поэтому данные рассуждения приводят к мысли о том, что отождествляемым объектом должен быть не просто механизм с определенным неизменным положением следообразующих частей, а также механизм с жестко фиксированными параметрами работы.
Таким образом, для решения экспертных задач предлагалось использовать морфологические признаки следообразующего объекта. Особо акцентировалось внимание на том, что эксперт, который проводит экспертизу данного вида, должен обладать совокупностью знаний в области устройства и принципов действия технологических установок. Полагалось, что такую информацию эксперт должен предварительно получить из источников специальной литературы или посредством получения консультаций специалистов, а также изучив документацию, регламентирующую процесс производства интересующих объектов исследования. Кроме того, эксперт должен принимать во внимание возможность и пределы допустимости изменений режима производства, происходящих в пределах механизмов, а также возможности отображения таких особенностей в следах на готовых изделиях.
Оценивая возможности комплексного исследования изделий со следами производственных механизмов, отмечалась необходимость учитывать тот факт, что физико-химические свойства изделий во многом зависят от использованного сырья, а не от особенностей процесса обработки, поскольку они бывают у изделий, изготовленных даже на разных предприятиях, и наоборот, разными у продукции, сошедшей с одного станка.
Практически на тех же позициях, относительно тождественности понятий механоскопическая экспертиза и исследование следов производственного происхождения на промышленных изделиях находятся и некоторые другие ученые. Например, был положен несколько иной по смыслу вариант названия механоскопиче-ских исследований — «экспертиза изделий массового производства», который в определенное время поддерживали А. Р. Шляхов, М. Я. Сегай, и А. Г. Скоморо-хова. Такое наименование послужило поводом для расширения предмета, объектов и задач экспертизы. В предмет экспертизы, помимо идентификации рабочих частей производственных механизмов, было предложено также отнести определение способа изготовления изделий и предприятия, осуществляющего выпуск конкретной продукции; идентификацию изделий массового производства по разделенным частям или по следам производственных механизмов, а также определение потребительского назначения изделий.
К объектам данной экспертизы предлагалось отнести конкретное предприятие и организованное на нем производство по выпуску промышленной продукции;
конкретное производственное оборудование; изделия, изъятые с разных мест и образцы изделий.
Что касается задач, решаемых в рамках производства экспертизы, то их решение должно осуществляться на основе криминалистического исследования признаков в следах производственного происхождения.
Существенным отличием, с точки зрения формирования и последующего становления учения о трасологической механоскопии, является расширение круга задач путем включения определения способа изготовления изделий. Это означает, что некоторые свойства промышленных установок, такие как технологические операции, действия оператора, особенности функционирования производственных механизмов стали входить в перечень объектов исследования.
Однако функциональные признаки исследуемых объектов предлагалось брать только с целью решения неидентификационных вопросов, относящихся к категории установления способа изготовления изделия, а также при определении свойств и назначения объекта исследования.
Дальнейшее развитие методологии трасологической механоскопии в середине 90-х годов прошлого столетия характеризовалось предложением ученых-криминалистов о расширении круга объектов исследования путем включения такой сложной многоуровневой системы, как производство в целом, включающее материал изготовления изделий (сырье), технические средства производства, а также готовые изделия. Кроме того, предлагалось изменить название данного вида экспертизы на «механоскопическую экспертизу производственно-технологических следов», поскольку сущность проводимых исследований становилась намного шире прежних.
По мнению автора статьи, наиболее существенный результат в области развития теории механоскопии заключается в том, что перечень задач пополнился задачами по установлению групповой принадлежности производственных механизмов на основе исследования технологических процессов. На основе накопленных эмпирических данных и теоретических разработок была обоснована возможность криминалистического исследования технологических свойств промышленного оборудования по следам, которые отображаются в процессе производства.
В своих научных прудах Н. П. Майлис высказала свою позицию о том, что понятие «механоскопические исследования» намного шире понятия «экспертиза производственно-технологических следов». В разработанной ею классификации к объектам механоскопической экспертизы были отнесены следы орудий, инструментов, механизмов и их частей, узлы, замки, пломбы, а целое по его частям. При этом говорилось, что «механоскопические исследования в широком смысле изучают следы самых разнообразных механизмов, перечень их практически не ограничен, к ним относятся станки для производства промышленных товаров, автоматы, упаковочные изделия, различные орудия и инструменты» [7, с. 19]. Позднее к механоскопическим исследованиям предлагалось относить следы крови, ручных швов, предметов одежды и следы механических повреждений на ней.
По мнению А. Г. Скомороховой, к механоскопическим относятся исследования следов орудий взлома, инструментов и механизмов, а объектами таких экспертиз должны становится производственные рабочие части производственных ме- ханизмов, технологические процессы и готовые изделия промышленного производства.
На основе анализа различных точек зрения ученых-криминалистов разных лет можно заметить, что перечни объектов механоскопических исследований существенным образом отличаются. Так, наиболее узкий из них практически приравнивает механоскопические исследования к экспертизе производственно-технологических следов. Самый широкий — включает множество различных предметов, которые вообще сложно объединить общей методикой механоскопических экспертиз.
Нам наиболее близка позиция А. Г. Сухарева, который предложил рассматривать систему трасологии, состоящую из трех структурных элементов: трасологической морфологии, трасологической механоскопии и микротрасологии.
В свою очередь, концепция трасологической механоскопии строится на том, что понятие «след» представляет собой не только отображение одного объекта на другом, а представляет собой любое материально фиксированное отображение свойств вещей или явлений, позволяющее судить об этих свойствах [8, с. 149—154]. Такая широкая трактовка обоснована тем, что в некоторых случаях она оказывается единственной приемлемой для решения экспертных задач [9, с. 118], поскольку у сложных объектов, представляющих собой составное целое, существует большая вероятность как отображения и восприятия криминалистически значимой информации. Другим словами, сложная система может воспринимать информацию путем изменения не только морфологических, но и своих интегративных свойств [10, с. 17]. Ярким примером тому могут послужить современные сигнальные (пломбировочные) устройства, представляющие собой ту самую сложную систему, состоящую из множества сопряженных между собой деталей, которые взаимодействуют между собой и практически не зависят от человеческих действий. Поэтому несанкционированные действия в отношении таких изделий могут привести к изменению их морфологии, нарушению режимов функционирования, а в некоторых случаях — к изменению субстанциональных свойств [11, с. 131]. Такой подход к определению свойств объекта как интегративных является основой трасологической механоскопии.
Таким образом, на сегодняшний день механоскопия представляет собой раздел трасологии, в котором разрабатываются методы и средства обнаружения, фиксации, изъятия и экспертного исследования следов, образуемых и воспринимаемых сложными техническими устройствами, функционирование которых преимущественно не зависит от действий человека.
Объектами данного раздела являются следы инструментов, следы производственных механизмов, следы нештатного отпирания и взлом замков, а также следы криминального воздействия на сигнальных (пломбировочных) устройствах.
Список литературы Некоторые исторические и прикладные аспекты методологии трасологической механоскопии
- Российская Е. Р. Судебная экспертология как методологическая основа новых родов и видов судебных экспертиз // Союз криминалистов и криминологов. — 2018. — № 1. — С. 140—147.
- Колмаков А. И. Исследование технологических признаков на изделиях, изготовленных с использованием металлорежущего оборудования: метод. рек. / А. И. Колмаков, Н. Ф. Пименов, В. Е. Каптонов и др. — М.: ЭКЦ МВД России, 1992. — 24 с.
- Хрусталев В. Н. Криминалистические исследование веществ, материалов и изделий: учеб. пособ. / В. Н. Хрусталев, Н. А. Соклакова. — М.: ЮСТИЦИЯ, 2020. — 732 с.
- Скоморохова А. Г. К вопросу о механоскопической экспертизе как экспертизе производственно-технологических следов // 50 лет НИИ криминалистики: сб. науч. тр. ЭУЦ МВД России. — М., 1995. — С. 91—96.
- Белкин Р. С. Общая теория советской криминалистики. — Саратов, 1986. — 339 с.
- Пророков И. И. Криминалистическая экспертиза следов (трасологические исследования): учеб. пособ. — Волгоград, 1980. — 285 с.
- Майлис Н. П. Криминалистическая трасология как теория и система методов решения задач в различных видах экспертиз: автореф. дис. д-ра юрид. наук. — М., 1992. — 46 с.
- Сухарев А. Г. Основы трасологический механосклпии и ее место в системе судебной трасологии // Судебная экспертиза. — 2007. — № 4. — С. 49—154.
- Самойлов А. В. Понятие трасологии в криминалистике / А. В. Самойлов, Р. С. Булавинов // Гармонизация права в современном мире: проблемы и перспективы (к 75-летию создания ООН): сб. ст. XVI всерос. междунар. науч.-практ. конф. — Курск, 2020. — С. 111—118.
- Яковлева Л. А. Отдельные аспекты трасологической механоскопии // Российский следователь. — 2017. — 21. — С. 18—20.
- Яковлева Л. А. Некоторые предметоно-методологические аспекты идентификационных и диагностических механоскопических экспертных исследований // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. — 2020. — № 4 (16). — С. 126—134.