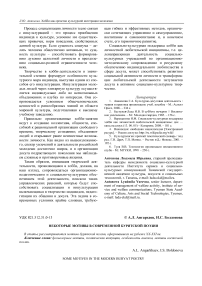Некоторые мотивы в современной бурятской поэзии
Автор: Ангархаев Ардан Лопсонович, Болдонова Ирина Сергеевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 6, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются мотивы бурятской поэзии, оформившиеся на рубеже XX-XXI вв.
Фольклорные мотивы, поэтическая интуиция, особенность анализа, мотивы восточной поэзии
Короткий адрес: https://sciup.org/148181123
IDR: 148181123 | УДК: 821.512.31.0-13
Текст научной статьи Некоторые мотивы в современной бурятской поэзии
A.L. Angarkhaev, I.S. Boldonova
SOME MOTIVES IN THE MODERN BURYAT POETRY
The article deals with modern motives in the Buryat poetry, took shape on at the XX-XXI centuries. Key words: folk motifs, poetic intuition, feature analysis, the motives of oriental poetry.
Бурятская поэзия в шестидесятые годы обрела свою нынешнюю форму и содержание, которые и ставят ее в ряд других поэзий, существующих - несмотря на различие - как классические или развивающиеся, современные.
До шестидесятых годов в бурятской поэзии доминировали фольклорные мотивы, поэт был ближе к рапсоду; а это ласкало сердце народа, имеющего глубокие древние истоки - удивительные устные народные творения - от пословиц и поговорок до крупных улигеров, содержащих тысячи строк. Народные песни, диалоги и благопожелания-юреелы на свадьбах, традиционных и семейных гуляниях были полны неожиданным юмором и сатирой, философией, отражающей быт и историю, содержащей устремления в будущее - все это составляло основу бурятской поэзии.
И эта особенность на сегодняшний день не является рудиментом в поэзии. Она возвращается в бурятскую поэзию на более высоком уровне творчества. Посмотрим на развитие творчества Галины Раднаевой.
Для раннего этапа ее творчества характерны подражания модным образцам западной и русской поэзии. Многие строки были тяжеловесны, напоминали некий перевод с иного языка, с иной мыслительной поэтической формы и содержания. Не только у нее было такое, многие молодые поэты, которые увлекались поэзией как западной, так и восточной, поневоле «несли» в своем творчестве элементы поэзии, любимой ими.
Мы обнаруживаем у Галины Раднаевой в ее зрелые годы ярко выраженный «возврат» к истокам бурятской поэзии, к формам, близким к народному творчеству. Ее строки приобрели такое благозвучие, которое присутствует в ули-герах, пословицах и поговорках, в шаманских призываниях и народных песнях.
Мы считаем, что данное явление знаменательно, поскольку Галина Раднаева - наш большой поэт. Процесс «возврата» в современной поэзии к истокам бурятской поэзии кажется нам положительным явлением. Вслушаемся в строки улигера «Гэсэр»: «Урайхани урайнда, / Урайни сагай мэндэдэ, / ТYPYYхэни TYPYYHДЭ, / ТYPYYни сагай мэндэдэ; / Ундэр дуулим тэнгэриин / Уня-ар татан байхада, / Улгэн Yнсэг дайдын / Шорой тооЬон байхада; / Уе сагаан Yбhэнэй / УндэhэлеегYЙ YДыдэ, / Ургэн ута мYрэнэй / ГорхолоогYЙ YДыдэ; / hYн ехэ далайн / Салим шалбааг байхада, / hYмбэр ехэ уулын / Боори болдог байхада; / Захын зандан модоной / ЗалаалаагYЙ YДыдэ, / Загал буурал Ьогооной / ИнзагалаагYЙ удыдэ^» и далее: «Оёдол сагаан тэнгэриин / ОбоороогYЙ YДыдэ, / Оёор сагаан тэнгэриин / БусалаагYЙ YДыдэ; / Сагай юунэй сарюунда, / СаарЬанай юунэй нимгэндэ / Байгша гэЬэн юумэл! / Болоо гэЬэн юумэл!..» [1].
Здесь каждая строка имеет свою изобразительную, эмоциональную и философскую нагрузку. Неожиданно здесь можно уловить и научное представление о мироздании, вообще о природе.
Почему же небо определяется как «белое» (Оёдол сагаан и оёор сагаан). Ведь небо либо «синее», либо «голубое» - в шаманских, тэнгэ-рианских призываниях установилось: «ХYхэ мYнхэ тэнгэри» («Вечное голубое небо»)? [2, с. 54].
Выражение «оёдол сагаан тэнгэри» подразумевает не само небо «белым», а его «сшивку, соединение» (оёдол) «белым». А что такое оё-дол? Небо, по представлению монголов, не есть что-то цельное, а соединение его частей - во-первых, над разными землями разные части неба, что и есть на самом деле; с разных точек земли видна разная часть видимой небесной сферы (ведь в южной полушарии земли нет Полярной звезды, вместе нее есть Южный Крест); во-вторых, у монголов Млечный путь называется «Тэнгэриин зYЙДэл» (Полоса, где сшили две части неба). А это на самом деле - видимая часть нашей Вселенной с кромки ее плоскости, Вселенная наша для нас является сфероидальной, Млечный путь - это скопление тысяч и тысяч звезд, звездных миров - звезд и его спутников, подобий нашей Солнечной системы. Млечный путь, конечно, для нас «белый», поэтому оёдол - «сагаан». Отчего же улигер утверждает, что небо «оёор сагаан», т.е. дно у него белое, другими словами, небо в глубине своей «белое»? На самом деле нет абсолютно белого цвета и абсолютно черного цвета, свет не имеет цвета, излучаемый свет мы называем белым, а вовсе поглощенный средой свет мы называем черным.
Может быть, это подтверждает то, что поэтическая интуиция и есть начало научной интуиции?..
Вопросы, возникающие при внимательном рассмотрении народного творчества, закономерно приводят к выводам, что возврат к исто- кам – явление положительное, возвышающее значение нашей бурятской поэтической мысли. «Уулзая хоюулаа – / Мүшэдэй зүйдэл, / Мүнгэлиг дэлхэйн / Мүхэреэн гүйдэл / Хараял хоюулан, / Yзэел хоюулаа,» – эти строки Галины Базаржаповой – современные по форме – раскрывают целый мир – мир не только чувств и эмоций, но и философского и научного понимания, внутренний мир современного человека. Влюбленные – это соединение миров («мүшэдэй зүйдэл»), это земля (серебряная, значит, белая, круглая и «бегающая», движущаяся по кругу («мүхэреэн гүйдэл»), несущая жизнь, значит, держащая на себе любовь.
Тема любви – это вечная тема поэзии. А как она звучит в рассматриваемом нами аспекте – перебрасывание моста из современности в вечность? Вслушаемся в строки совсем молодого поэта, выпускницы Бурятского государственного университета Даримы Дулмаевой: «Шааюур-хан горхотой нютагтаа / Шэхэндэм аалихан шэ-бэнэхэ, / Һэмээхэн хасарыеш таалаха / Һэрюухэн hэбшээн болохом гү?// Yүp сайхаhаа урдахана / Yншэн хүүхэндэл гансаараа / Аалин сонхоорш шагааха / Алтан hара болохом гү? // Хүгжэмтэ аялга дуунуудаа / Хэтэдээ шамдаа дуулаха / Хо-ёр жэгүүр далинуудтай / Хөөрхэн булжамуур болохом гү? // Сэнтэй хайрата инагайнгаа / Ду-лаахан альган дээрэ / Доошоо ниидэхэдээ тогто-хо / Саhан болохом гү?// Һэбшээн болоходом шэбшээрэй, / Һара болоходом хараарай, / Бул-жамуур болоходом шагнаарай, / Саhан болоходом тодоорой!».
Здесь присутствуют фольклорные «горхон», «hэбшээн», «алтан hapa», «булжамуур» – они ведут не только к фольклорным началам, но и к мифологическому материалу. Как не вспомнить стихотворение Бавасана Абидуева «Сонхоор малайhан hapa». «Yншэн хүүхэн» ассоциируется с «лунной девушкой» с коромыслом, с ведрами на плечах, похищенной ночью луной, да она же, конечно, осиротевшая одна на луне!
Следующая отмечаемая нами особенность современной бурятской поэзии – это обращение к историческим народным истокам, обобщение событий тысячелетий и понятий современности: «На исходе век – в огненном венце, / Гул эпохи, блики, отсвет на лице – / Россия – новый вызов лихолетья, / У подножия неба – третье тысячелетие // Вновь явились звездные дожди, / Знаменья, лесть, незваные вожди // На стыке двух тысячелетий – / Кровь, слепые виражи // У подножья неба – миражи... / России миражи».
Эти стихи Сергея Тумурова показывают, что в бурятской поэзии появился философский под- ход, граничащий с некоей публицистичностью, обращением поэта как трибуна и глашатая к массам. Тумуровские строки напоминают строки Александра Блока из поэмы «Возмездие» о XIX и XX веках: «Век девятнадцатый железный / Воистину жестокий век! // Тобою в мрак ночной, беззвездный / Беспечный брошен человек!.. // Двадцатый век... // Еще бездонней, / Еще страшнее жизни мгла... // И неустанный рев машины, / Кующей гибель день и ночь... // И отвращение от жизни, / И к ней безумная любовь, / И страсть, и ненависть к отчизне... // И черная, земная кровь / Сулит нам, раздувая вены, / Все разрушая рубежи, / Неслыханные перемены, / Невиданные мятежи...» [3, с. 329-330]2.
Следующая особенность, которую нам надо отметить, – продолжение мотивов восточной поэзии. Они вначале появились в поэзии Дондо-ка Улзытуева, Лопсона Тапхаева, Бориса Сыре-нова, Намжила Нимбуева. Ныне указанные мотивы присутствуют в поэзии Дулгар Доржиевой, Рахмета Шойморданова, Дондопа Очирова, Лопсона Гыргенова.
«С небом вечерним в соседстве / Край моей горной тропы // Песня рождается в сердце / Иль ощущение борьбы? // Мир, обернувшийся тишиной, / Словно вселенная передо мной» (Дулгар Доржиева).
«Ами наhан – hалаатаhан харгы, / Агшан зуу-ра носоhон одон // Нэгэнэй наhан – хабарай ургы / Нүгөөдэ нэгэнэй – набшаhата модон...» или: «Шамгүй, инагни, алтан дэлхэй – / Шууяагүй, xооhон монсогор шулуун // Шамгүй инагни, инагни, сагшье – мэлхэй, / Шадалгүй болоhон, далигүй шубуун...» (Лопсон Гыргенов).
Мотивы восточной поэзии в современной бурятской поэзии имеют нюансы биографического времени, дома/родины как концептов пространства. Это ярко прослеживается в поэзии Лопсона Тапхаева. Кстати, он, как один из зачинателей ввода восточных мотивов в бурятскую поэзию, по-прежнему остается ориентиром в этом направлении развития.
Биографическое время – духовно значимые моменты жизни, отраженные в произведении. Для внутреннего мира лирического героя Л.Тапхаева характерна фиксация времени на определенных жизненных этапах человека. Биографическое время в его поэзии связано с пространством реального географического пространства. Мотив биографического времени рефреном проходит в циклах книги «Угай бэ-шэг» («Летопись рода»): «Бага наһан» («Детство»), «Золто хабар» («Счастливая весна»), «Хо-рёодтойдоо» («В двадцать лет»), «Наһанай тэн» («Полдень жизни»), «Дүшэн юһэндөө» («В сорок девять лет»). В этих циклах происходит осмысление времени в разные периоды жизни человека (на временной аспект указывают и сами заглавия). Это циклы – некий хронотоп жизненного пути человека, дорога от юности к старости.
Заглавия сборников имеют глубокий смысл. Название «Угай бэшэг» буквально значит «летопись рода», «родословная». Оно обращает к коллективному бытию человека; именно в общую канву истории народа, рода вписывается индивидуальная судьба поэта. В самом начале книги раскрывается история рода в поэмах «Угай түүхэ» («История рода»). Раскрытие индивидуальной судьбы начинается с детства, название «бага наһан» буквально значит «малая жизнь», («детство»), в бурятском языке семантическое поле слова «жизнь» шире, оно значит и «прожитые годы», и «бытие». Детская пора, мыслимая как «малая жизнь», утверждает ценность жизни в любом возрасте.
Название «Золто хабар» содержит общечеловеческую метафору юности как весны, само название утверждает логическую оценку этой поры человеческой жизни. Название цикла «Хорё-одтойдоо» отражает народное представление о существовании в жизни человека определенных рубежных дат, которым должен соответствовать этап становления. Цикл «Наһанай тэн» соответствует зрелости, в названии содержится общеязыковая метафора, где «харгын тэн» – середина пути, «үдэрэй тэн» – «середина дня», «һүниин тэн» – середина ночи, «мүрэнэй тэн» – «середина реки», слово «тэн» вмещает в себя и пространственное, и временное значение. Образный перевод «полдень жизни» содержит и указание на ход солнца, его положение в зените. Название «Дүшэн юһэндөө» содержит указание на число 49. Особое значение чисел и числовой символики в истории культуры общеизвестно. По восточному календарю по прошествии двенадцати- летнего цикла в душе у человека происходят перемены («сэдьхэл хямарха»). Именно в этот период происходят «метаморфозы», переосмысление прожитого и жизни в целом.
В основе композиции книги «Угай бэшэг» в названии циклов «Золто хабар» и «Наһанай тэн» находится традиционная поэтическая метафора – видение жизненного пути человека в их соотношении с временами года и суток. Периоды жизни человека образуют микрообразы: весна – молодость, осень – старость и т.д. Утро, день, вечер также ассоциируются с этапами человеческой жизни.
Биографическое время – время индивидуальной жизни вписано во время природной жизни. Личное время и календарное время в сознании поэта всегда совмещены, так как совпадение ритмов человеческой жизни и космических ритмов находится в основе гармонии, которую и раскрывает поэзия Л.Тапхаева. В самом первом сборнике стихов поэта «Мундаргын сэсэгүүд» («Цветы гольцов») уже можно выделить эту особенность биографического времени, его «сращенность» с календарным природным временем. В цикле «Этигэл» («Вера») этого сборника смена времен года становится основным фоном, на котором разворачивается любовная история лирического героя.
Книга «Угай бэшэг», изданная в 1988 г., подытоживает определенный период творчества поэта, так как после нее долгое время не издавались книги с оригинальными стихотворениями на бурятском языке, печатались отдельные стихотворения в периодической печати. Для наиболее полного определения авторского понимания времени (и личного, и исторического), необходимо, на наш взгляд, проанализировать стихотворения поэта, объединив их не только по хронологическому принципу порядку написания, а по содержательному, по той человеческой жизни, которой они посвящены [4, с. 14-17].
И пространство в бурятской поэзии приобретает новые черты: это Родина, Дом, в котором Очаг является пространственным концептом; все это восходит к Космосу.
Опять обратимся к исследованиям О.А. Заба-новой. Образ Родины в бурятской поэзии создается на чувственном уровне: аромат только его родине присущих запахов, воспринимаемый на архетипическом уровне, рассеян в лирике Дон-дока Улзытуева (это запах ая ганги), Баира Ду-гарова (сагаан дали), у Лопсона Тапхаева (арсын хангал үнэр – запах можжевельника).
Концепт Дом является одним из ведущих в творчестве Л.Д. Тапхаева и представляет собой одну из центральных «семантических сфер» в индивидуально-авторском стиле писателя. Смысловое наполнение названного концепта последовательно формируется на протяжении всего творчества Л.Тапхаева и включает в себя несколько смысловых планов (концептуальных признаков): дом - локус семьи, сердце, душа; ограда - локус переживания интимных чувств, малая родина - эмоционально-положительное отношение к родным местам, к своим родителям, кровно-родственным «корням», к близким людям, к знакомым с детства обычаям и традициям, к родному языку.
Названные смысловые планы состоят из ряда семантических линий (семантических составляющих), которые, взаимодействуя, создают поэтическую картину мира, соответствующую мировосприятию автора, его видению того, как устроена та часть пространства, которая называется Домом, Родиной.
В ранних стихах поэта образ Дома высоко частотен. Он создается не только через прямую номинацию: «Гэр тээшээ мэндэжэ ябахадаа» (Когда тороплюсь я к родному дому), и через перечисление понятий того, что является его как внутренними, так и внешними составляющими: гал гуламта (очаг); гэшхYYP (крыльцо); шагаабар (окно); хуреэ (ограда).
Очаг (гал гуламта) олицетворяет не только благополучие рода, семьи, но содержит этическую концепцию продолжения традиций народа, пока жив очаг домашний, жив народ и его культура. С древних времен для бурят жилище воспринималось как миниатюрная модель мира, поэтому его структура повторяла структуру Космоса, где центром служил очаг, обеспечивая контакт с Небом, как аналог мирового древа, фиксирующий вертикальные связи.
Огонь очага в национальном сознании имеет глубокий смысл. В стихотворении «Нухэдэйм hамгад» («Жены друзей») отражается национальное восприятие женщины как хранительницы очага «хатан шэнги гуламтыень шэмээлта, нYхэдэйм hамгад» (как королевны украсили их очаг, жены друзей). Образ женщины как хранительницы очага - символ красоты, богатства, постоянства. Этот образ является проявлением наивысшего душевного подъема человеческих чувств. Он понятен и созвучен каждому.
В стихотворении «Yншэн хYбYYнэй дуун» («Песня мальчика сироты») смерть матери для мальчика - это угасание огня домашнего очага, пустота и холод.
Концепты пространства и времени в поэзии Бориса Сыренова проявляются совершенно по-иному: эти фундаментальные понятия филосо- фии опоэтизируются на обыденном житейском восприятии и восходят к истокам восточного мировоззрения. Проанализируем его стихотворение: «YглeeгYYP болотор унтахадаа / Унтари соогоо садаха губ? / Набандан хэбтээд уйлаха-даа, / hайхан ЗYYДЭ Yгылхэ губ?» (Почувствую ли удовлетворение / Просыпаясь утром в постели? / Метаясь в беззвучном плаче, / Пойму ли, что не было желанного прекрасного сна? [Подстрочный перевод наш].
В этом первом четверостишии время воспринимается в реальной (утро, человек просыпается) и в ирреальной (сон) форме; пребывание человека в реальном и ирреальном мире сливается в единое мировосприятие.
«Газаа гараад харахадашни, / Галуунууд нYYхэ баруун зYг руу. // Малаа туна, адаглаха-дамни, / Малшан хYбYYн бэлшээри уруу» (Выхожу из дома, смотрю, / Гусиные косяки летят на Запад. // Паренек, пастух / Направляет стадо на пастьбу) [Подстрочный перевод наш].
Мир находится в движении: птицы перелетают в необозримую даль, а коровье стадо уходит на пастбище - земное пространство выступает в двух ипостасях: в первом случае расстояние измеряется в континентальных масштабах, во втором - в ближнем своем проявлении: житейском, обыденном, простом - хозяйственном. Время ощущается в движении в пространстве: пастьба коров - это суточный цикл, а перелет птиц - годовой, но то и другое происходит в вечности, во временном протяженности бытия человечества и природы.
«Намарай энэ Yглeeе / Хабарай хагсууда hанахалби. // Ходоржо Yнгэрhэн хYлгeeе / Хого-осон гээд лэ hанахалби» (Осеннее это утро / Придет ко мне в весеннее ненастье. // Преходящее суету нашу / Восприму как качество пус-тотности бытия...).
Осенняя довольная, достаточная пора (птицы улетают с выводком-пополнением в теплые края, тучное стадо коров степенно направляется на луга и поля, еще не опустевшие, зовущие теплой благодатью) сменится весенними ветрами, последней хлесткой снежной круговертью. А по сути своей все это - суета жизни, неопределенность, непредсказуемость природы и человеческого бытия - пустотность существования мира, микро- и макрокосмоса, это одно из фундаментальных понятий буддийской философии.
Мотив «вселенской круговерти» - один из сильных в современной бурятской поэзии. Так и называется - «Во Вселенской круговерти» -книга Жоржа Юбухаева («Эрьен байhан юртэм-сын юрьеэн соо»). В предваряющем сборнике стихотворении пронзительны строки о трехчастности мира, о вечности, суетности – о добре и зле, находящемся в вечном неравновесии, подводя человека к мыслям о суетности жизни – истоки этих поэтических раздумий в древних мифах и сегодняшней философии, которая никогда не достигнет завершения.
Данная статья не претендует на масштабный анализ современных мотивов в бурятской поэзии, но в ней мы попытались заострить внимание исследователей на некоторые современные мотивы в бурятской поэзии с тем, что дальнейшее их обсуждение может быть полезным в развитии поэтической бурятской мысли.