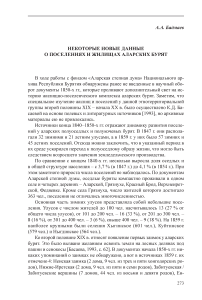Некоторые новые данные о поселениях и жилищах аларских бурят
Автор: Бадмаев А.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XVII, 2011 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521764
IDR: 14521764
Текст статьи Некоторые новые данные о поселениях и жилищах аларских бурят
В ходе работы с фондом «Аларская степная дума» Национального архива Республики Бурятия обнаружены ранее не введенные в научный оборот документы 1850-х гг., которые проливают дополнительный свет на историю жилищно-поселенческого комплекса аларских бурят. Заметим, что специальное изучение жилищ и поселений у данной этнотерриториальной группы второй половины XIX – начала XX в. было осуществлено К.Д. Басаевой на основе полевых и литературных источников [1993], но архивные материалы ею не привлекались.
Источники конца 1840–1850-х гг. отражают динамику развития поселений у аларских полуоседлых и полукочевых бурят. В 1847 г. они располагали 32 зимними и 21 летним улусами, а в 1859 г. у них было 57 зимних и 45 летних поселений. Отсюда можно заключить, что в указанный период в их среде ускорился переход к полуоседлому образу жизни, что могло быть следствием возросшего значения земледельческого производства.
По сравнению с концом 1840-х гг. несколько выросла доля оседлых и в общей структуре населения – с 3,7 % (в 1847 г.) до 4,1 % (в 1854 г.). При этом заметного прироста числа поселений не наблюдалось. По документам Аларской степной думы, оседлые буряты компактно проживали в одном селе и четырех деревнях – Аларской, Грязнухе, Красный Брод, Верхнеирет-ской, Федяевке. Кроме села Грязнуха, число жителей которого достигало 363 чел., поселения не отличались многочисленностью.
Основная часть зимних улусов представляла собой небольшие поселения. Улусов с числом жителей до 100 чел. насчитывалось 13 (27 % от общего числа улусов), от 101 до 200 чел. – 16 (33 %), от 201 до 300 чел. – 8 (16 %), от 301 до 400 чел. – 3 (6 %), свыше 400 чел. – 9 (18 %). На 1859 г. наиболее крупными были селения Хыгинское (601 чел.), Куйтинское (579 чел.) и Ныгдинское (564 чел.).
Ко второй половине XIX в. относят появление первых заимок у аларских бурят. Это было вызвано желанием освоить земли на лесных делянах под пашни и сенокосы [Басаева, 1993, с. 62]. В документах начала 1850-х гг. никаких упоминаний о заимках не обнаружено, а вот в источниках 1859 г. их отмечено 4: Ненская заимка (2 дома, 9 чел. из трех и пяти хонгодорских родов), Нижне-Иретская (2 дома, 9 чел. из пяти и семи родов), Забитуевская / Забитуевские вершины (7 домов, 44 чел. из восьми и девяти родов), Ен- донская (20 домов и 11 юрт, 112 чел. из двух, пяти, шести и девяти родов). Заимки создавали полуоседлые буряты поблизости от зимних улусов. Со временем они превращались в небольшие стационарные поселения и, вероятно, теряли первоначальное назначение.
Для каких хозяйственных целей предназначались заимки? Это можно понять из следующего отрывка: «Кроме этого инородцы (аларские буряты. – А.Б. ), в зимнее время кочуют на заимку для прокорма скота и молотьбы хлеба, а по окончании работы на заимках возвращаются в зимники» [НАРБ, д. 275, л. 221]. Данное описание несколько противоречит мнению К.Д. Басаевой, что заимки представляли осенники намаржаан , земли вокруг которых использовали под пашни и сенокосы, под выпас скота по жнивью [1993, с. 62]. Для бурят традиционным был зимний выпас скота на подножном корму и в середине XIX в. они знали зимний способ молотьбы зерна на льду, но вероятность их зимнего пребывания на заимке вызывает сомнения.
Согласно архивным документам, к середине XIX в. в большинстве улусов население стало смешанным и включало представителей двух и более родовых подразделений. Так, в 1859 г. у аларских бурят было 17 улусов, имевших однородное население (25,4 % всех улусов): из представителей двух родов – 22 (32,8 %), трех родов – 11 (16,4 %), четырех родов – 8 (11,9 %), пяти родов – 4 (6 %), шести родов – 3 (4,5 %), семи родов – 2 (3 %). Стоит также отметить, что в одном улусе вместе могли проживать семьи с разным хозяйственным укладом – полукочевники, полуоседлые и оседлые.
Наше внимание привлек один из документов Аларской степной думы, посвященный сравнению поселений 1858 и 1859 гг. Судя по нему, у алар-ских бурят были частые и весьма ощутимые колебания в численности населения, отмечаемые почти в каждом поселении. О причинах этого явления сообщается следующее: «Разности числа душ и дворов ˂…> произошли вследствие переходов инородцев из одного улуса в другой» [НАРБ, д. 275, л. 108]. Смущает в этих переходах их повсеместный характер и то, что наряду с более мобильными полукочевниками и полуоседлыми в миграции оказались втянуты оседлые буряты.
Если посмотреть на состав населения летних поселений, то он тоже не был однородным. Так, на летнике Саган-нур собирались представители первого, второго, третьего и шестого хонгодорских родов, зимовавшие в Средне-Иматском и Верхне-Иматском улусах. Часть представителей третьего рода из Верхне-Иматского улуса на лето перекочевывала в Куркатский улус [НАРБ, д. 275, л. 49].
Надо сказать, что изменения, связанные с перераспределением населения, прослеживаются и в соотношении разных типов жилья у аларских бурят. По нашим исследованиям, в первой половине XIX в. основным типом жилища на зимних и летних поселениях полуоседлых бурят были 6–8-стенные бревенчатые юрты. Оседлые буряты жили в избах, полукочевые летом пользовались войлочными юртами, зимой – бревенчатыми. В 1850-е гг., вследствие упомянутого процесса перехода полукочевников в полуоседлое состояние, прекратилось использование войлочных юрт.
Следует принять во внимание следующую информацию из ежегодного отчета Аларской степной думы: аларские буряты «для летних жилищ строют восьмиугольные и четвероугольные юрты без окон и печей» [НАРБ, д. 275, л. 224]. Отсюда можно заключить: во-первых, 6-стенные юрты перестали быть востребованными и окончательно уступили место 8-стенным юртам; во-вторых, упоминание только 4-стенных и 8-стенных юрт указывает на углубление социальной дифференциации в бурятском обществе (состоятельные люди стремились обзаводиться более вместительным жильем, а бедняки – меньшим по площади).
В рассматриваемое время имела место тенденция увеличения жилищного фонда и количества жилищ каждого типа. Если в 1854 г. в ведомстве было 2 009 деревянных домов (35,6 % всех жилищ) и 3 630 юрт (64,4 %), то к 1860 г. – соответственно 2 266 домов (37,1 %) и 3 836 юрт (62,9 %) [НАРБ, д. 182, л. 24об.]. Очевидно, буряты заметно больше стали строить домов, чем юрт.
Для зимних улусов аларских бурят было характерно наличие в каждом дворе по 1 дому и 1–2 бревенчатым юртам. Исключение составляли 5 селений, в которых указанное соотношение не выдерживалось: Иретское (18 домов, 14 юрт), Верхне-Иретское (13 домов, 13 юрт), Саган-Нугайское (31 дом, 32 юрты), Кодун-Нугайское (3 дома, 3 юрты) и Кундулунское (102 дома и 118 юрт). По сути, юрты, расположенные на зимниках, эксплуатировались бурятами как амбары, а иногда – как теплый хлев и не являлись жилым помещением.
Полезные сведения об обеспеченности жильем и комфортности жилищных условий разных категорий аларских бурят можно почерпнуть из донесения старшины 1 хонгодорского рода Модак Ноехоноева [НАРБ, д. 275, л. 49]. На основе его данных складывается такая картина: полукочевые буряты, зимовавшие в Верхне-Иматском улусе, жили в бревенчатых юртах в среднем примерно по 5 чел.; полуоседлые буряты, имевшие избы в Средне-Иматском и Верхне-Иматском улусах, – по 3–5 чел.; оседлые буряты из Средне-Иматского улуса обитали в крайне стесненных условиях – до 9 чел. в избе. Безусловно, наилучшие условия проживания были у по-луоседлых бурят.
В границы зимних усадеб входили, кроме жилых построек, еще и сараи, скотные дворы, амбары и другие хозяйственные постройки.
Изучение документов Аларской степной думы показывает, что в 1860 г. 44 зимних улуса и деревни (68 % от общего числа поселений) решали проблему водоснабжения посредством строительства колодцев. При этом для некоторых поселений источниками воды служили как колодцы, так и природные водные ресурсы. Жители остальных поселений получали воду из естественных водоемов (озера Аляат, рек, речек и ключей). Можно констатировать, что аларские буряты с успехом освоили технологию рытья ко- лодцев, благодаря чему отошли от традиции размещения поселений только у естественных водоемов. О том, как выглядело на деле колодезное строительство, узнаем из следующего текста: «Колодцы в Аларском ведомстве обыкновенно имеют там, где нет протечных вод, они вырываются от 2-х до 8 сажен глубины обыкновенно до водного слоя, потом спускается бревенчатый деревянный сруб, и приделываются Очепа – так называются журав-цы, посредством которых достается вода, которая годна к употреблению как для человека и скота» [НАРБ, д. 182, л. 43об. – 44].
Как следует из документов, в ряде зимних улусов общественные строения дополняли жилые усадьбы: магазины (в 11 улусах), кузницы (по ведомству их было 35). Вблизи некоторых улусов построили плотинные мукомольные мельницы (всего 8).
Больше всего был застроен общественными зданиями Хыгинский улус, являвшийся административным центром ведомства. Здесь были возведены юрты, где заседала Аларская степная дума, флигель и амбар для хранения дел Думы, экономический магазин, изба Хыгинской почтовой станции. Рядом с улусом лежал Аларский дацан – духовный центр местных буддистов, где располагались деревянное здание главного храма, каменная и деревянная часовни, жилые дома лам и их учеников. Центром православия у алар-ских бурят был Иретский улус, в котором выстроили деревянную церковь.
В завершении хотелось бы отметить, что трансформация жилищно-поселенческого комплекса аларских бурят в 1850-е гг. протекала в русле тех процессов, которые были присущи другим предбайкальским бурятам.