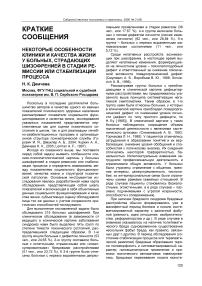Некоторые особенности клиники и качества жизни у больных, страдающих шизофренией в стадии ремиссии или стабилизации процесса
Автор: Демчева Н.К.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Краткие сообщения
Статья в выпуске: 3 (41), 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14295138
IDR: 14295138
Текст краткого сообщения Некоторые особенности клиники и качества жизни у больных, страдающих шизофренией в стадии ремиссии или стабилизации процесса
Н. К. Демчева
Москва, ФГУ ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского Росздрава
Поскольку в последние десятилетия большинство авторов в качестве одного из важных показателей психического здоровья населения рассматривают показатели социального функционирования и качества жизни, исследование указанных показателей представляется перспективным как для оценки психического состояния в целом, так и для реализации лечебно-реабилитационных программ в организационной структуре психиатрической службы (Гу-рович И. Я., Шмуклер А. Б., 2004; Чуркин А. А., Демчева Н. К., 2005; Lerman A. F., 1997).
Исходя из сказанного выше, мы поставили перед собой задачу выявить особенности клинико-психопатологической картины у больных шизофренией в стадии ремиссии или стабилизации процесса и определить взаимосвязь между показателями социального функционирования, качества жизни и структурой психической патологии. Основным инструментом исследования явилась разработанная нами карта обследования, представляющая собой шкалу показателей и включающая в себя объективные данные социального функционирования и качества жизни, субъективную оценку обследуемого лица тех же данных с учетом сохранности критических способностей тестируемого.
Для выполнения поставленной задачи было обследовано 215 больных шизофренией. При клиническом обследовании (в зависимости от ведущего в клинической картине заболевания синдрома) нами было выделено пять групп по степени тяжести психического состояния, распределившиеся следующим образом. В 1-ю группу вошли больные с дефектом личности (53 чел., или 24,65 %). 2-ю группу составили больные с остаточными, отрывочными или «инкапсулированными» бредовыми расстройствами (51 чел., или 23,72 %). К 3-й группе были отнесены больные с нерезко выраженными депрес- сивными проявлениями в стадии ремиссии (38 чел., или 17,67 %). 4-я группа включала больных с легким дефектом личности (легкие изменения личности) (62 чел., или 28,84 %). 5-я группа – больных с нерезко выраженными маниакальными состояниями (11 чел., или 5,12 %).
Среди негативных расстройств, возникающих при шизофрении, в настоящее время выделяют негативные изменения, формирующиеся на личностном уровне – психопатоподобный дефект и ответственный за снижение психической активности псевдоорганический дефект (Смулевич А. Б., Воробъев В. Ю., 1988; Smule-vich A. B., 1996).
Рассматривая группы больных с преобладающими в клинической картине дефицитар-ными расстройствами, мы придерживались указанного выше принципа систематизации негативной симптоматики. Таким образом, в 1-ю группу нами были отнесены больные, у которых в клинической картине преобладал псевдоорга-нический дефект со снижением уровня личности (дефект по типу простого дефицита, по H. Ey [1985]). В клинической картине у таких больных наблюдалось сокращение объема психической деятельности с явлениями «астенического аутизма» (Снежневский А. В., 1983; Горчакова Л. Н., 1988). У пациентов отмечались затруднения в образовании понятий и их вербализации, снижение уровня обобщений и способностей к логическому анализу. Их суждения отличались некоторой трафаретностью, банальностью. Интеллектуальные изменения затрудняли профессиональную деятельность и ограничивали общую активность. У больных были утрачены стремление к общению, прежние интересы, целеустремленность, честолюбие, их интерперсональные связи были ограничены узкими рамками семейных отношений. В ряде случаев пациенты становились безжалостными, эгоистичными, а в ряде случаев – пассивно подчиняемыми с утратой искренности, способности к сопереживанию.
При наличии бредового синдрома бредовые расстройства обычно формировались уже в манифестный период болезни и носили систематизированный характер с различной фабулой (ревность, идеи отношения, изобретательства, реформаторства и др.). В ряде случаев в анамнезе указывалось на наличие политемати-ческого бреда (одновременное существование нескольких фабул бреда, как правило, связанных друг с другом). В период обследования (состояние стабилизации процесса или терапевтической ремиссии) бредовые образования теряли полиморфность и систематизированный характер, галлюцинаторные проявления и признаки психического автоматизма нивелировались. Бредовые переживания носили моноте- матический характер, теряли яркую эмоциональную окрашенность. Сниженный или несколько приподнятый аффективный фон оказывался как бы вне бредовых идей. Менялся и характер бредовых построений. Так, идеи отношения, преследования, с которыми больные связывали ухудшение самочувствия, приобретали характер сверхценных ипохондрических образований. Больные высказывали жалобы на необычные болезненные явления соматического характера («усыхание организма», «дизрегу-ляция кишечной системы», «изменения костного состава»), не связывая данные явления с внешними факторами, воздействием преследователей, отравлением, «порчей» и т. д., однако критическая оценка к своему состоянию отсутствовала.
В 3-й группе больных с преобладающими в период ремиссии депрессивными расстройствами рассматриваемые состояния наблюдались только в рамках приступообразнопрогредиентной шизофрении. Депрессивные фазы далеко не всегда характеризовались наличием классической депрессивной триады (снижение настроения, физическая и интеллектуальная заторможенность). Чаще сниженное настроение, не всегда достигающее степени «витальности», сопровождалось нерезко выраженным снижением интеллектуальной продуктивности. В период развития приступа сниженный аффект сопровождался обсессивными, сенестоипохондрическими переживаниями. После перенесенных приступов, во время осмотра больных, картина заболевания характеризовалась стабильностью и складывалась из остаточной неврозоподобной симптоматики и некоторых изменений личности. Негативная симптоматика проявлялась нерезко выраженным дефектом личности или астеноанергическим дефектом, однако клиническая картина в целом определялась сниженным фоном настроения со снижением критических возможностей.
Клиническая картина больных 4-й группы определялась преобладанием в структуре дефекта психопатоподобных расстройств. Данные расстройства были либо сопряжены с гипертрофией отдельных свойств личности за счет сдвигов психэстетической пропорции, нарастания странностей, чудачеств и нелепостей в поведении (дефект типа фершробен, по K. Birnbaum [1906]) либо проявлялись в форме усиления пассивности, безынициативности, зависимости – дефект типа дефицитарной шизофрении (Шендерова В. Л., 1974). В структуре основного синдрома у больных с дефектом по типу фершробен отмечалась «патологическая аутистическая активность» (Minkowsky E., 1927), сопровождающаяся вычурными, не согласующимися с конвенциональными нормами нелепыми поступками, отражающими отрыв как от действительности, так и от прошлого жизненного опыта. В значительной мере у таких больных страдала и ориентация в сфере будущего, отсутствовали четкие планы и определенные намерения. У больных отмечались расстройства оценки своего «Я», они не понимали, что ведут себя неадекватно. Зная, что среди близких и сослуживцев они слывут «чудаками», больные считали такие представлении неправильными, не понимали, на чем они основаны. Маниакальные состояния характеризовались сочетанием приподнятого настроения с повышенной активностью и двигательным беспокойством, говорливостью, снижением сосредоточения, отвлекаемостью, что сопровождалось завышенной самооценкой, иногда (3 случая) развивающейся в некорригируемые идеи величия или особого значения.
На период обследования, в состоянии ремиссии, компоненты галлюцинаторно-бредовых расстройств отсутствовали, повышенный аффект не был представлен характерной маниакальной триадой. Отсутствовали повышенная беспорядочная активность и двигательное беспокойство, что обеспечивало возможность адаптации больных на определенном уровне. Клиническая картина определялась несколько приподнятым фоном настроения со снижением критического отношения к своему состоянию.
При анализе показателей социального функционирования и качества жизни оказалось, что указанные показатели снижались от 1-й к 5й группе больных. При этом в 1-й группе наиболее сниженными оказались такие параметры, как трудовая и интеллектуальная продуктивность, способность к критической оценке своего состояния и окружающей действительности. Круг общения этих больных ограничивался двумя-тремя наиболее близкими людьми, стремление к общению отсутствовало. Во 2-й группе показатели социального функционирования в целом оказались несколько выше. При этом в значительной степени страдала субъективная составляющая качества жизни (оценка больным различных сторон своей деятельности, материального положения, состояния здоровья). При бредовых расстройствах отношения, носивших характер преследования, субъективная оценка была занижена. При бредовых расстройствах с идеями изобретательства, реформаторства субъективная оценка носила «завышенный характер.
В случае депрессивных расстройств наблюдались значительные нарушения субъективной составляющей качества жизни. Обследованные больные давали заниженную, по сравнению с действительностью, оценку своему состоянию, материальному и социальному положению. При депрессивных состояниях нарушались такие стороны социального функционирования, как интеллектуальная и физическая продуктивность, характер и широта общения с окружающими. При нерезко выраженных изменениях личности, также как и при депрессивных состояниях, наблюдались нарушения субъективной составляющей качества жизни. При этом значительно чаще оценка пациентом своего состояния возможностей социального функционирования, материального положения носила «завышенный характер». Обследованные данной группы психических расстройств переоценивали свои возможности, материальное положение, физическое состояние. При субманиакальных состояниях во всех случаях наблюдалась «завышенная самооценка». В отношении физической активности лиц с приподнятым аффектом можно характеризовать как непродуктивно активных.
Полученные результаты представляются перспективными в плане дальнейшего исследования качества жизни и социального функционирования больных шизофренией в стадии ремиссии, так как они могут способствовать оптимизации терапевтических и реабилитационно-профилактических программ.
ДЕТИ И ПОДРОСТКИ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ: ОПЫТ ОКАЗАНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПОМОЩИ
А. В. Елисеев
Томск, Сибирский государственный медицинский университет
Низкий уровень психического здоровья школьников, достигающий, по различным литературным источникам, от 18,4 до 70 % [1, 6, 7), и еще больший удельный вес учащихся со «школьной дезадаптацией» - 31,6—76,97 % [2, 3] во многом снижают, а в ряде случаев ограничивают возможность получения ими полноценного общего образования. В то же время потребность детско-подросткового населения в психиатрической, психотерапевтической и психопрофилактической помощи удовлетворяется лишь на 10 % [5].
Сложившаяся многолетняя практика оказания специализированной помощи детям и подросткам не отвечает их потребностям и происходящим реформам в сфере психиатрии [4]. В Томске преобразования в системе комплексной реабилитации детей с психическими расстройствами (ПР), которые испытывают трудности в обучении, стали проводиться с 2000 г. Они оказались возможными благодаря динамичному развитию детской психиатрической службы в городе и области за последние 15 лет. В настоящее время ее структура представлена стационарными и внебольничными подразделениями: специализированные детские отделения; медико-педагогический центр, на базе которого открыт дневной стационар; подростковая служба; психогигиеническая служба для школьников. В 2004 г. на клинической базе ТОКПБ открыто детско-подростковое отделение НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН.
Одним из условий качественного улучшения оказываемой специализированной помощи учащимся общеобразовательных школ с ПР стало изменение структуры и статуса Томской городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Проведенные преобразования позволили преодолеть межведомственную разобщенность и координировать деятельность органов здравоохранения, образования и социальной защиты, оказывающих помощь детям. С 2000 г. ПМПК является структурным подразделением одновременно здравоохранения и образования (с долевым участием в финансировании), а ее деятельность носит постоянный (круглогодичный) характер. Состав комиссии представлен группой специалистов: детский врач-психиатр, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, олигофренопе-дагог, сурдопедагог. Одновременное использование клинико-психо-патологического, клиникопсихологического и психолого-педагогического методов исследования обеспечивает системный подход в диагностике расстройств психического (психологического) развития ребенка. На основе клинико-психопатологического метода проводятся феноменологическая оценка и квалификация ПР по МКБ-10. Накопленный нами опыт работы свидетельствует о том, что из всего спектра психической патологии у школьников в доминирующем большинстве случаев встречаются расстройства психического развития (F80—F89) и эмоциональные, поведенческие расстройства (F90—F98). Дифференцированный клинический анализ позволяет выделить среди них основные и сопутствующие расстройства на разных возрастных этапах развития детей. Выявленная психопатологическая симптоматика рассматривается в контексте аномальных психосоциальных ситуаций, среди которых важное место занимают нарушенные отношения в семье, неблагоприятные события в жизни ребенка, хронический межличностный стресс, связанный с учебой в школе. Клиникопсихологический метод представлен психодиагностическим направлением. Использование экспериментально-психологичес-ких методик является одним из условий общего диагностического процесса в детской психиатрической практике. На основании количественных показателей оцениваются такие психофизиологические и индивидуально-психологические характеристики детей, как познавательный уровень, пространственное восприятие, произвольная мимическая моторика, сформированность лек-сическо-грамматического строя речи, фонематический слух, сенсомоторный уровень речи и др. Анализ полученных данных проводится с учетом статистических результатов, характеризующих норму и различные варианты отклонения от нее. С помощью психологопедагогического метода исследуется воздействие факторов, связанных с образовательной и воспитательной средой, влияющих на обучение детей с ПР. Особое внимание уделяется недостаткам педагогической среды, которая создает условия для возникновения ПР у школьников. Среди негативных факторов, действующих на учащихся в школе, до сих пор сохраняются стрессовая тактика авторитарной педагогики, несоответствие программ и технологий обучения функциональным и возрастным особенностям детей, экстенсивный характер учебных нагрузок, преобладание отрицательной оценочной стимуляции и др. Как следствие, это приводит к социально-педагогическим ситуациям, возникающим между педагогом и уче- ником, которые характеризуются взаимным безразличием или даже взаимной враждебностью, односторонней симпатией, подавлением активности школьника. Обучение в школе приводит к изменению социального положения ребенка, и «статус ученика» становится фактором, во многом определяющим характер отношений с родителями. Источником конфликтных отношений в семье становятся отрицательные оценки, плохое поведение, низкая оценка педагогом учебной деятельности ребенка и т. д. Таким образом, предметом изучения психологопедагогического метода являются диадные отношения «ребенок–родители», «ребенок– педагог», «ребенок–сверстники». Использование системного подхода в диагностике ПР у детей позволяет повысить ее качество и определить приоритеты лечебно-реабилитационных и психокоррекционных мероприятий. Диагностика в этом случае выходит из контекста технократического мышления и профессиональной самодостаточности, а выявленные ПР рассматриваются с позиции биопсихосоциальной концепции.
Многолетний опыт междисциплинарного сотрудничества был положен в основу создания структурной, функциональной и сетевой моделей оказания интегрированной помощи детям и подросткам с ПР. Эффективность работы предложенных моделей обеспечивается структурной организацией учреждений различных профилей, распределением функциональных обязанностей каждого из участников междисциплинарной полипрофессиональной группы специалистов, определением приоритетов оказания специализированной помощи детям и подросткам с ПР на диагностическом, реабилитационном этапах и на этапе мониторинга.