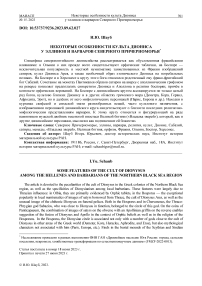Некоторые особенности культа Диониса у эллинов и варваров Северного Причерноморья
Автор: Шауб И.Ю.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Религиоведение
Статья в выпуске: 15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Специфика северопонтийского дионисийства рассматривается как обусловленная фракийскими влияниями: в Ольвии о них прежде всего свидетельствуют орфические таблички, на Боспоре - исключительная популярность в местной нумизматике заимствованных из Фракии изображений сатиров, культ Диониса Арея, а также необычный образ хтонического Диониса на погребальных пеликах. На Боспоре и в Херсонесе к кругу этого бога относился родственный ему фрако-фригийский бог Сабазий. Сочетание на монетах Пантикапея образов сатиров на аверсе с аполлиническим грифоном на реверсе позволяет предполагать синкретизм Диониса и Аполлона в религии боспорян, причём в контексте орфических верований. На Боспоре с дионисийским кругом ассоциируется не только целый ряд богов, культово близких Дионису и в других областях греческого мира (Деметра, Кора, Геракл, Афродита, Эрот), но и далёких от него мифологических персонажей (Парис, Европа и др.). Находки в курганах скифской и синдской знати разнообразных вещей, часто культового назначения, с изображениями персонажей дионисийского круга свидетельствуют о близости последних религиозно-мифологическим представлениям варваров. К этому кругу относится и фигурирующий на ряде памятников мужской двойник змееногой ипостаси Великой богини («Владыка зверей»), который, как и другие дионисийские персонажи, мыслился как подчиненное ей божество.
Северное причерноморье, эллины, варвары, религия, культ, дионис, сабазий, сатиры, менады,
Короткий адрес: https://sciup.org/14129230
IDR: 14129230 | DOI: 10.53737/9236.2023.89.62.027
Текст научной статьи Некоторые особенности культа Диониса у эллинов и варваров Северного Причерноморья
Дионис, без сомнения, был самым популярным богом греческого мира. Поэтому неудивительно, что и ему, и его фиасу1 посвящена не просто огромная, а практически необозримая литература. Однако, несмотря на такое изобилие работ, глубоко иррациональная природа этого бога такова, что не только постигнуть её, но даже охватить внутренним взором все нюансы его образа и культа не представляется возможным2.
Могучий импульс к изучению дионисийства дал трактат «Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik» («Происхождение трагедии из духа музыки») Ф. Ницше — кумира интеллектуальной элиты европейского модерна. Для отечественной культуры изучение Диониса представляет особый интерес, учитывая два фактора: исключительное внимание, которое уделял этому богу пленённый дионисийскими идеями Ницше В.И. Иванов — ключевая фигура интеллектуальной жизни Серебряного века, перу которого принадлежат наиболее масштабные и глубокие на русском языке исследования дионисизма (Иванов 1994 (1923); 2014 (1917))3, а главное, — мощный «дионисийский» пласт в психологии русского этноса, нашедший яркое воплощение в религиозном сектантстве (хлыстовстве и т.п.) (Эткинд 1998).
Вполне естественно, что многие памятники культа Диониса в Северном Причерноморье (которых, кстати, несравненно меньше, чем в Греции или Италии), более или менее подробно анализировались с самых разных сторон (Русяева 1978; 1979; 1992; 2005а; 2005б; Шауб 1987а; 1989; 1999б; 2007а; 2008б; 2011; 2014; 2019а; Русяєва 1995; Винокуров 2002; Молева 2003; Кузина 2005; 2007а; 2007б; 2008; 2011, 2013; Скржинская 2009; Хамула 2009; 2013 и др.). Однако, несмотря на это, целый ряд вопросов, относящихся к дионисийству в Северном Причерноморье, остаётся дискуссионным, не говоря уже о разногласиях по поводу интерпретации многих культовых памятников. Главными из этих вопросов являются особенности культа Диониса в греческих колониях Северного Причерноморья, а также специфика дионисийства у причерноморских варваров. Именно эти спорные вопросы и рассматриваются в настоящей статье.
Самые ранние и наиболее оригинальные памятники культа Диониса в греческих государствах Северного Причерноморья происходят из Ольвии.
Это посвящения Дионису общиной орфиков, вырезанные в V в. до н.э. на костяных пластинках (см.: Русяева 1978). На одной из них в верхней части вырезаны слова: «βίος θάνατος βίος», чуть ниже: «ἀλῆθεια», а в нижней части: «Διο ορφικοι» (т.е. Διό[νυσος] ὀρφικοί или Διο[νύσωι] ὀρφικοί). М. Уэст обоснованно считает, что эти слова подразумевают веру в жизнь после смерти (West 1982: 18).
На оборотной стороне третьей пластинки перед словом «ψυχή» читается слово «σῶµα» — и, таким образом, мы имеем здесь оппозицию тела и души, о которой говорит Платон (Crat., 400c) в том же самом месте «Кратила», где речь идет об орфическом
МАИАСП № 15. 2023
Некоторые особенности культа Диониса у эллинов и варваров Северного Причерноморья метемпсихозе. Данные граффити «серьезно укрепляют позицию исследователей, продолжавших, несмотря на возражения, среди которых были и весьма серьезные, отстаивать историческую реальность орфизма как религиозного движения, а не как конгломерата не связанных между собою явлений» (Жмудь 1992: 110)
По словам Л. Я. Жмудя, «эти граффити подтвердили то, что можно было предполагать и раньше: фигура мифического царя Орфея действительно связана с Аполлоном, но важнейшим культовым божеством орфизма был тем не менее Дионис» (Жмудь 1992: 100). Дополнительные данные о характере орфического Диониса в Ольвии дают рисунки, сопровождающие посвящения Дионису. Корабль фиксирует связь этого бога с морем, а лошадь — либо (впрочем, как и корабль) с загробным миром, либо с Дионисом Загреем (поскольку конь был одним из его превращений) (Русяева 1979: 79). Свидетельства о связи Диониса с загробным миром есть на протяжении всего существования этого культа в Ольвии; в поздний период — это терракотовые фигурные сосуды, предназначенные для погребальных целей (Русяева 1992: 98—99).
Скорее всего, орфизм проникает в Ольвию не в V в. до н.э. из Афин (Русяева 1992: 97), а еще в VI в. до н.э. из Милета (Penkova 2003: 606 sq.), причём явно на хорошо подготовленную почву. Об этом наглядно свидетельствует существование уже в первой половине V в. до н.э. официального культа Вакха, адептом которого стал скифский царь Скил (Hdt., IV, 79).
Косвенным свидетельством существования орфизма в северопонтийском регионе ещё ранее является бронзовое зеркало, найденное в позднеархаическом погребении Ольвии (Розанова 1968). Следует особо отметить, что это зеркало, на котором зафиксировано древнейшее из известных вакхическое восклицание (Burkert 2004: 84), является изделием местного производства, причём украшено оно в зверином стиле, характерном для варваров (Скржинская 1984: 117, № 37).
В связи с культом Диониса в Ольвии стоит вспомнить сообщение Геродота (IV, 108) о том, что гелоны (жители города Гелона в земле будинов, по происхождению эллины, некогда выселившиеся из эмпориев) в честь этого бога «каждые 2 года устраивают празднества с оргиями». Что же касается происхождения этого ольвийского культа, то вполне вероятно, что почитание Вакха могло быть принесено сюда первыми колонистами из Милета (Ehrhardt 1983: 169), который, как известно, был основан минойцами. Но в то же время можно предполагать, что расцвет этого культа как в Нижнем Побужье, так и во всём Северном Причерноморье, был обусловлен существованием у местных племен схожих экстатических культов шаманистического толка4.
Возвращаясь к ольвийским орфикам, можно предположить, что их община существовала именно здесь отнюдь не случайно, ведь совсем неподалеку обитали геты, которые, по словам Геродота (Hdt., V, 4) и Арриана (Arr. Anab., I, 3, 2), «верили в бессмертие» (ἀπαθανατίζοντες, буквально «бессмертствующие») (Hdt., IV, 97). Судя по находкам лепной керамики, геты жили и в архаической Ольвии (Марченко 1988). В этой связи приходит на память свидетельство Вергилия (Bucol., IV, 517—520) о том, что сам Орфей (alter ego Диониса Загрея: Wright 2003: 179), «посещал гиперборейские льды, и спешный Танаис, и поля, никогда не освобождающиеся от Рифейских инеев, жалуясь на похищение Эвридики и тщетные дары Дита (Плутона)».
Кроме уже упомянутого сообщения Геродота о вакхических празднествах в Ольвии, о существовании здесь официального культа Диониса свидетельствуют монеты конца V — начала IV в. до н.э., на аверсе которых представлен букраний, на реверсе — тирс в окружении букв ΟΛΒΙ (или ΟΛ), что говорит о государственном характере чеканки этих монет (Карышковский 1988: 53; Анохин 1989: 22), а также упоминание жреца Диониса в надписи первой половины IV в. до н.э. (IOSPE I2: №166). О государственном характере культа Диониса в Ольвии свидетельствует и фиксируемая надписями IV—III вв. до н.э. связь этого бога с театром (Русяева 1979: 82).
МАИАСП № 15. 2023
Кроме вышеперечисленных, существует еще целый ряд данных о популярности Диониса в Ольвии (Русяева 1979: 83 след.; 1992: 87—99). Это и граффити с именем этого бога на обломках киликов и канфаров, и изображения бога и его спутников как в терракоте, так и в мраморной пластике, и многочисленные теофорные имена (свыше 45), образованные от имени этого бога или от названий его праздников (Русяева 1992: 99).
В связи с дионисийской символикой особое внимание привлекают к себе ольвийские свинцовые букрании. Сочетание изображений букрания и тирса на упомянутых выше ольвийских монетах с уверенностью позволяет предполагать связь букрания с Дионисом. Считается, что изготавливавшиеся в IV в. до н.э. в Ольвии терракотовые статуэтки бычков (Леви 1964: 170, рис. 41: 1), найденные в основном при исследовании теменоса5, служили вотивами этому же богу (Русяева 1979: 89). При этом культовый комплекс (яма), где обломок торса женской статуэтки V в. до н.э. был перекрыт десятью бычьими рогами, «уложенными наподобие венца» (Леви 1956: 66, рис. 25), наглядно демонстрирует тот факт, что в религиозных представлениях ольвиополитов бык мог сочетаться и с женским началом. О том, что подобная ассоциация женского божества с быком была характерна для верований не только ольвиополитов, но и боспорян, свидетельствуют изображения Европы на быке (Шауб 2000), а также золотые серьги в виде головы богини (в роскошной диадеме), шею которой украшает подвеска в виде бычьей головы (см.: ABC: 48, табл. VII: 11; Калашник 2014: 94—95) (рис. 12)6. Кроме этих серёг в одном из боспорских курганов была найдена золотая коробочка в виде головы быка с дионисийской символикой — плющевой повязкой (Калашник 2014: 92—93) О прочих изображениях быков на Боспоре и их связях с Дионисом см. ниже.
С IV в. до н.э. в Ольвии начинается производство свинцовых букраниев и двулезвийных секир (лабрисов), которые также связаны с хтоническим культом Диониса (рис. 1). Наличие среди этих культовых предметов лабрисов, которые отливали и вместе с букраниями, и отдельно, свидетельствует о более сложном комплексе связанных с ними религиозных идей. Вероятно, здесь мы имеем дело с воскрешением древних представлений, характерных для религии минойского Крита, где лабрис был не только одним из главных символов могущества Великой богини, но и одним из ее воплощений, а букраний (или бычьи рога) — символом ее умирающего и воскресающего спутника, почитавшегося в виде быка; таким образом, лабрис над букранием символизировал власть Великой богини над богом-быком (рис. 2, 3). В подобных изображениях «ясно просматривается одна из исходных мифологем древнейших религий Европы, Средиземноморья и Передней Азии, соединившая в нерасторжимом, хотя и внутренне противоречивом единстве женское и мужское начало, воплощенные в образах Великой богини земного плодородия и божественного быка, считавшегося ее сыном и в то же время возлюбленным и супругом» (Андреев 2002: 394—395). Столь характерная для минойской культуры теснейшая связь верховного женского божества с быком как воплощением оплодотворяющего мужского начала восходит еще к неолитическому Чатал-Хююку. Тот факт, что на трипольском костяном культовом предмете в виде головы быка изображена сама богиня, свидетельствует о продолжении или воскрешении в ольвийских культовых предметах древней северопричерноморской традиции (рис. 4). Все упомянутые выше изображения являются еще одним наглядным свидетельством того, что в Северном Причерноморье (причем не только в греческой, но и в варварской среде) была хорошо известна тесная связь между Дионисом и Великой богиней (Шауб 2008в)7.
МАИАСП № 15. 2023
Некоторые особенности культа Диониса у эллинов и варваров Северного Причерноморья
Очень показательным представляется тот факт, что промежуточным звеном между культовыми памятниками минойского Крита и ольвийскими свинцовыми предметами являются схожие свинцовые вотивы из архаических святилищ Артемиды Ортии в Спарте (Wace 1929). Как известно, до конца античного периода эта богиня сохраняла характернейшие черты своего минойского прототипа.
Возможно, на примере ольвийских букраниев и лабрисов мы имеем подтверждение глубокомысленной идеи В.И. Иванова о том, что «прадионисийские культы искали синкретической формы, объединяющей обе религии — олимпийскую и хтоническую» (Иванов 1994: 71).
В связи с культом Диониса в Ольвии чрезвычайный интерес представляет уже упомянутое сообщение Геродота о Скиле (Hdt., IV, 78—80).
Геродот приводит этот рассказ, равно как и сообщение о скифском мудреце Анахарсисе, в качестве наглядной иллюстрации к своему утверждению, что скифы «старательно избегают пользоваться обычаями чужих народов и более всего эллинскими» (Hdt., IV, 76), еще раз повторяя (Hdt., IV, 77—78), что и Анахарсис, и Скил были убиты за пристрастие к чужеземным обычаям и за общение с греками.
Однако, утверждение Геродота о подозрительном отношении скифов к божеству, заставляющему людей безумствовать, странным образом расходится с тем, что он сам рассказывает о культе Диониса у родственных скифам гелонов, а также о скифской бане (Hdt., IV, 108)8, не говоря уже о вошедшей в поговорку склонности скифов к злоупотреблению дарами этого бога и разнообразных археологических свидетельствах распространения его культа в Скифии.
Т.М. Кузнецова не без основания предположила, что мать брата Скила Октамасада, фракиянка, могла воспитать своего сына во фракийско-дионисийском духе, подобно истриянке, матери Скила, и, таким образом, братоубийца мог быть если не адептом, то весьма терпимым к экстатическим обрядам Дионисова культа (Кузнецова 1984: 14).
О существовании в Ольвии значительной организации почитателей Диониса свидетельствуют не только эпиграфические документы, но и Геродот (Hdt., IV, 79), рассказавший о посвящении скифского царя Скила в вакхические таинства. А.С. Русяева полагает, что «именно в данном фиасе появились орфические учения, известные по граффити на костяных пластинках (Русяева 1978; 1979). Исходя из того, что на них прочерчено и имя Диониса, орфики входили в вакхический союз или же были тесно связаны с ним» (Русяева 1992: 198).
К вышеупомянутому нужно добавить, что к дионисийскому кругу относится подавляющее большинство сюжетов росписи ваз и представленных на них символов (плющевого орнамента и т.п.) из ольвийского позднеархаического некрополя. В погребальном контексте они явно ассоциировались с дионисийскими представлениями о смерти (прежде всего, как о пребывании в дионисийском парадизе). На целом ряде этих ваз наряду с прочими дионисийскими мотивами присутствуют изображения дельфинов9. Можно предполагать, что эти животные, так же как представленные на вазах пальметки, плющ, и лотос, воспринимались ольвиополитами не только в качестве символов умирающего и воскресающего Диониса, но и ощущались живыми знаками Великой богини, владычицы всего сущего (Шауб 2011: 203—204).
Что касается Диониса на Боспоре, то свидетельства его культа здесь до эпохи Спартокидов немногочисленны10. Данные, относящиеся к IV в. до н.э. позволяют утверждать, что в это время Дионис стал здесь одним из самых популярных богов. Об этом говорят и монеты, и надписи, и граффити, и остатки его храма в Пантикапее (Ильина, Муратова 2002) и свидетельство Полиэна (Polyaen., V, 44) о существовании не только в столице, но и в других крупнейших городах Боспора
МАИАСП № 15. 2023
театров, которые в весьма архаичных народных верованиях боспорян IV в. до н.э. не утеряли своей исконной тесной связи с культом Диониса и почитанием умерших. Именно хтонизм — чрезвычайно тесная связь с погребальным культом и загробными верованиями боспорян11, является отличительной особенностью почитания Диониса на Боспоре. Об этом наглядно свидетельствуют сюжеты росписи погребальных «боспорских пелик» и других ваз «керченского стиля»12.
По наблюдению К. Шефольда, пелики с изображением Диониса на грифоне, преследующего девушку, происходят только из женских могил); в мужских погребениях встречаются пелики, на которых представлена борьба грифонов с аримаспами, которых этот швейцарский искусствовед считает служителями Диониса, а их поражение в борьбе с грифонами — символом пути через смерть к бессмертию (Schefold 1960: 94). Если Шефольд прав, то символика этого сюжета оказывается близка к значению столь популярных в грекоскифском искусстве сцен терзания грифонами животных.
На одной пелике хтонический Дионис представлен в виде бородатой головы во фригийском колпаке между протомами грифона и лошади (Schefold 1934: Abb. 60), таким образом выступая в качестве дублета Великой богини в ее загробном аспекте.
Не менее наглядно связь дионисийства с «загробьем» боспорян выражается в том, что самым частым мифологическим сюжетом росписи специально помещавшихся в могилы «керченских ваз» является изображение Диониса и его фиаса. Так, Дионис в окружении сатиров и менад представлен на многочисленных пеликах и колоколовидных кратерах. Наряду с сатирами вместе с Дионисом фигурирует и его супруга Ариадна13 (которая нередко имеет черты менады) (Schefold 1934: № 84, 366, 414)14.
На вазах керченского стиля вместе с хтоническим Дионисом часто представлена родственная ему хтоническая Афродита: их фиасы соседствуют на одних и тех же изображениях, причём в дионисийских сценах почти постоянно присутствует Эрот (Шталь 1989: 113).
Только по изображениям на керченских вазах известен сюжет преследования женщин Дионисом на пантере или грифоне, а также сюжеты, где в роли преследователей женщин выступает Эрот или персонажи в восточных костюмах. Эти сюжеты возникли в результате соединения народных верований с «отзвуками» сюжетов, «сравнительно поздно освоенных античной мифологией и еще новых для античного древнегреческого эпоса, созданного по мотивам «варварского»» (Шталь 1989: 131). И.В. Шталь отмечает, что подобные «мифоэпические предания, прежде чем выйти на плоскость живописного изображения, прошли сравнительное осмысление в пределах дионисийско-орфического круга верований» (Шталь 1989: 131). (Так в дионисийско-орфическом кругу оказался «средством передвижения» Диониса грифон, который, как и Дионис, был в Греции «пришельцем».
Рассмотрев сюжетную роль Эрота в росписи керченских ваз, та же исследовательница пришла к выводу, что в своем значении «он вышел за пределы как афродионисийского, так и дионисийского фиасов; в какой-то момент Дионис и Эрот, восседающий на пантере, оказались внутренне сближенными, едва ли не идентичными по своей семантике <…>» (Шталь 1989: 133—134).
Как уже упоминалось выше, в росписи керченских ваз женщин преследуют также люди (пешком или верхом) в восточных костюмах. Этих персонажей К. Шефольд считает слугами Господина подземного мира, выполняющими его волю (Schefold 1934: 149). Соглашаясь с мнением Шефольда, Шталь задаётся вопросом: «Кем был изначально восточный человек, занявший место Диониса на грифоне и тем сравнившийся с божеством, представший как бы
МАИАСП № 15. 2023
Некоторые особенности культа Диониса у эллинов и варваров Северного Причерноморья его ипостасью?» Сам ли это Дионис в необычной иконографии, «быть может, испытавшей на себе традиции Фракии и Боспора? Но если это и не Дионис, то восточный всадник близок к Дионису. Из всего этого явствует пока только одно: некогда человек в восточном костюме, преследующий женщин в подземном мире, был Хозяином подземного мира и потому сохранил в нем определенное независимое положение, выше положения сатиров и менад и в отстранении от них» (Шталь 1989: 136). Очень вероятно, что не только на погребальных вазах IV в. до н.э., но в популярных в первые века н.э. в росписи боспорских гробниц сценах похищения Коры (Зинько 2007) в роли Плутона выступал Дионис15.
На основе анализа 11 пелик керченского стиля, фрагмента аттического фигурного сосуда работы мастера Сотада (вторая четверть V в. до н.э.) из Пантикапея, а также росписи пантикапейского склепа Пигмеев (II—I вв. до н.э.) И.В. Шталь доказала связь с дионисийством сакральной семантики ещё одного сюжета — борьбы пигмеев с журавлями (Шталь 1989: 83—84).
На оборотной стороне почти всех боспорских пелик помещались обращенные лицом к друг другу фигуры в гиматиях (обычно 2, реже 3), которые часто держат тимпан — знак дионисийства (Шталь 1989: 158). Поскольку речь идет о важных предметах погребального инвентаря, то «явление можно понять, если представить, что сюжет вбирал в себя и концентрировал в себе квинтэссенцию, суть сакральной погребальнсой символики дионисийско-орфического круга верований, был его знаком в донельзя обощенном, абстрагированном варианте. Ни с каким другим отдельно взятым сюжетом этот сюжет, действительно, не был связан, но только потому, что был разом связан со всеми сюжетами росписи керченских ваз» (Шталь 1989: 157).
Таким образом, можно констатировать ассоциацию пелик с дионисийством, поскольку даже в тех случаях, когда сюжет росписи лицевой стороны этих погребальных сосудов непосредственно не связан с культом Диониса, она просматривается на изображениях, представленных на их оборотной стороне16.
Кроме пелик и других ваз керченского стиля о важной роли, которую играли дионисийские сюжеты в заупокойном культе обитателей Боспора, наглядно свидетельствуют гипсовые аппликации деревянных саркофагов первых веков н.э. в виде театральных масок, менад, Силена, Пана, играющего на сиринге; см.: (Жижина 2007: 15, 25).
Характерной особенностью культа Диониса на Боспоре является ассоциация с дионисийским кругом целого ряда персонажей, причём не только обычно близких Дионису богов (Деметра, Кора, Геракл, Афродита, Эрот), но и, казалось бы, весьма далёких от него мифологических персонажей (Парис, Европа) (Шауб 1993; 2000), а также сюжетов (борьба пигмеев и журавлей) (Шталь 1989) .
На связь сюжета Европы с дионисийской сферой может служить намеком присутствие на всех многочисленных рыбных блюдах, которые были использованы в тризнах, обнаруженных в кургане Большая Близница, наряду с Европой изображений Эротов с тимпанами. Культ хтонического Диониса нашел яркое отражение и в других изображениях на предметах, найденных в том же кургане (Alexandrescu 1966: 81; Шауб 1987б: 30, 31).
Важнейшим свидетельством распространения дионисийского культа на Боспоре является тот факт, что с начала IV и вплоть до середины III в. до н.э. на аверсе пантикапейских монет неизменно фигурировали головы бородатых силенов и безбородых сатиров. Аналогичные изображения бытовали также и в боспорской нумизматике более позднего времени — это пантикапейские и фанагорийские монеты конца II в. до н.э. (Терещенко 2012; Шауб, Терещенко 2021: 71 след., рис. 1: 1—37).
МАИАСП № 15. 2023
Сочетание образов сатиров на аверсе с аполлиническим грифоном на реверсе монет Пантикапея позволяет предполагать синкретизм Диониса и Аполлона в религии боспорян (Шауб 1989), причём, возможно, в контексте орфизма, поскольку звеном для связи этих богов выступал Орфей (Лебедев 1986). Это тем более вероятно, учитывая то, что фракийский Дионис — Орфей имел «огненно-солярную природу» (Маразов 1992: 186 след.)
По мнению М.И. Ростовцева, сатироподобные персонажи боспорских монет являются изображениями «местного, возможно фракийского, божества, великого бога растительности, который стал греческим Дионисом и который иногда фигурирует в виде бородатого силена на монетах греко-фракийских городов» (Rostovtzeff 1922: 80)17.
Что касается типов голов сатиров и силенов, представленных на пантикапейских монетах, то их иконография, несомненно, пришла из Фракии, причем явно вместе с дионисийской семантикой. Об этом свидетельствуют найденные во фракийских курганах драгоценные предметы дионисийского культа (серебряные канфары), украшенные с внутренней стороны позолоченными атташами в виде совершенно аналогичных голов (Фракийское золото 2013: 224, 236, 298) (рис. 5: 1—3). Нет сомнений в том, что золочение этих изображений подчеркивает и даже повышает их семантическую значимость. Хронологически эти культовые артефакты предшествуют пантикапейским монетам с изображениями спутников Диониса (Фракийское золото 2013: 224, 236, 298). Кроме того, параллелизм двух аспектов божества, представленного на монетах Пантикапея: бородатого пожилого и юного безбородого, — черта, свойственная культу диморфного бога Диониcа — является, на наш взгляд, ещё одним аргументом в пользу предположения М.И. Ростовцева (Шауб 2019а; Шауб, Терещенко 2021)18.
О хтоническом характере этого сатироподобного божества свидетельствуют два факта. Во-первых, популярность его изображений на золотых бляшках от погребальных одежд жителей как Боспора, так и скифов, погребенных в приднепровских курганах. Во-вторых, связь этого божества со змееногой богиней — местным Великим женским божеством в его хтоническом аспекте (Шауб 1999; 2007а; 2011). Эта ассоциация фиксируется не только изображениями на бляшках, где змееногая крылатая богиня держит в руках голову сатира (курганы Куль-Оба и ст. Ивановской на Таманском полуострове) (рис. 6: а, 7)19, но и сочетанием образов Горгоны Медузы (змееволосой ипостаси Великой богини; см.: Шауб 2021а) и сатироподобного божества на золотой фиале из Куль-Обы (рис. 8)20. Совместные находки бляшек с изображением обоих этих персонажей зафиксированы также в погребениях № 3 и № 4 кургана Большая Близница, причём у нас нет сомнений в том, что в последнем из них, равно как и в гробнице № 1, упокоились местные эллинизированные жрицы Великой богини (Шауб 2017). В погребении № 4 голова, совершенно аналогичная изображению на бляшках, представлена и на ожерелье, причём она является здесь частью некоей «космограммы» (Шауб 2015).
О том, что наряду со служением Великой богине жрица, похороненная в гробнице № 4, была привержена также культу Диониса, свидетельствует тот факт, что к её калафу,
МАИАСП № 15. 2023
Некоторые особенности культа Диониса у эллинов и варваров Северного Причерноморья центральным образом которого являлась сама Богиня21, были прикреплены золотые рельефные фигурки танцующих сатиров и менад в исступленном танце с тирсом или ножом и частью растерзанного животного в руках, а также менад (одна с канфаром в руке), едущих на грифоне и барсе (рис. 13). Однако, этот Дионис был отнюдь не «классическим», как считал румынский ученый П. Александреску (Alexandrescu 1966: 81 sv.), а местным, на чьё присутствие намекали изображения его спутников и который мог являться в обличии греческого сатира. Это предположение в значительной мере опирается на то, что подобные же менады, но в более варваризованном виде, служили главным украшением калафообразных головных уборов скифских жриц, погребенных в курганах Приднепровья, а именно — в Деевом и Рыжановском (Ростовцев, Степанов 1917: табл. VI, IX). Судя по тому, что менады на скифских калафах неоднократно представлены в экстатической пляске с ножом в одной руке и частью жертвенного животного в другой (рис. 14), их ритуал носил дионисийски-оргиастический характер. Отличительной чертой дионисийских культов, как известно, был экстаз — выход из себя и слияние с божеством, а также интуиция единства бога и жертвы (Иванов 1994: 26)22. О том же могут свидетельствовать и находки в курганах Приднепровья изображений бородатых сатиров (Ростовцев 1925: 443, 444). Вероятно, с этими персонажами как-то связано глухое сообщение Геродота об обитавших в Скифии козлоногих существах (Hdt., IV, 25).
Как уже отмечалось, Дионис на Боспоре часто изображался в виде быка. Здесь нередко встречаются терракотовые фигурки этих животных. Важно отметить, что одна из них была обнаружена в пифосе винохранилища, входящего в винодельческий комплекс городища Артезиан первой половины III в. н.э. (Винокуров 2002: 34). Н.И. Винокуров справедливо констатирует, что связь этого «изображения быка и хозяйственного профиля комплекса очевидна». По данным того же археолога, другая статуэтка быка была обнаружена в составе позднеантичного ритуального комплекса городища Белинское, куда кроме того входили несколько десятков моделей миниатюрных давилен из известняка, большое количество других вотивных предметов, в том числе статуэтка козла или оленя. Рядом с этим комплексом найдено посвящение Дионису, написанное краской на горле амфоры (Винокуров 2002: 34).
Особо следует отметить, что в IV в. до н.э. выпускались пантикапейские монеты с головой быка на реверсе и головой сатира на аверсе, а также золотые ювелирные изделия с символикой Диониса-быка, происходящие из боспорских курганов. Это уже упоминавшиеся выше ювелирные изделия в виде головок богинь, шею которых украшали бычьи головки, и золотая коробочка в виде головы быка с дионисиской символикой, а также пластина от головного убора жрицы, погребённой в кургане Карагодеуашх (Артамонов 1966: рис. 320). На этой пластине под изображением ритуальной сцены, центральной фигурой которой является Великая богиня, представлен фриз из чередующихся букраниев и горгонеев — символов Богини и её паредра23 (рис. 9). Как и в Греции, в причерноморских городах букрании вырезались на фризах алтарей, постаментах и другой храмовой утвари, выступая в качестве дионисийских символов.
Уже неоднократно упомянутое в разных контекстах сообщение Геродота о посвящении скифского царя Скила в таинства Диониса-Вакха в Ольвии (Hdt., IV, 76—78) является уникальным, но красноречивым свидетельством приобщения варварской элиты к культу этого бога. Однако в этой новелле, кстати, построенной по модели дионисийского мифа (Шауб 2006), делается упор на противодействие скифов чужеземным обычаям. Рассказ Геродота явно расходится с реальностью, которая демонстрирует пристрастие варваров к вину, а, следовательно, и как минимум толерантному отношению к богу, чьим даром мыслился этот чудодейственный напиток.
МАИАСП № 15. 2023
«Безудержные попойки во время дионисийских праздников следует считать неотъемлемой стороной культа бога вина. Напиваясь, верующие полностью отдавали себя, свою волю, да и саму жизнь во власть божественных сил, дабы абсолютно уподобиться богу в веселье, буйстве, плотских утехах, безумству и неистовству. Чем больше человек освобождался от самого себя, от привычных норм и правил поведения, тем больше он переходил под божественное покровительство. Освобождаясь под влиянием дионисовой влаги от пут повседневности, человек «умирал» для жизни земной и приобщался к жизни «вечной», а вино при этом выступало как средство передвижения из мира реального в ирреальное пространство, ближе к божественному центру вселенной, — пишет Н.И. Винокуров, ведущий отечественный специалист по культу вина в Северном Причерноморье античной эпохи. В тоже время вино могло транспортировать умерших в мир теней и духов, служа залогом новой жизни. Поэтому греки и многие другие народы с высокой культурой виноделия рассматривали употребление вина как особое ритуальное действо с глубокой мистической подоплекой» (Винокуров 2002: 38—39).
В связи с проблемой отношения варваров к культу Диониса тот же исследователь задаётся закономерным вопросом: считали ли они заимствованные у греков в почти неизменном виде образцы столовой и парадной посуды для питья вина всего лишь удобными сосудами для этой цели «или же признавали их также неотъемлемой частью божественного естества бога вина»? И полагает, что «какой-то сакральный подтекст в их использовании все же был» (Винокуров 2002: 38). В пользу этого предположения кроме аргументов, приведённых Н.И. Винокуровым, вероятно, говорит и тот факт, что консервативные меоты из всего репертуара греческой посуды выбрали объектом для подражания только канфар (Лимберис, Марченко 1999) — главный рукотворный атрибут Диониса.
Мы не сомневаемся в том, что, активно приобщаясь к греческой традиции винопития, скифы восприняли и некоторые стороны почитания бога вина. Поэтому отсутствие у скифов божества, аналогичного по своим функциям Дионису, едва ли серьёзно препятствовало проникновению в их среду дионисийского культа24. Фактором, способствовавшим этому проникновению, безусловно, было соседство и тесные контакты с фракийцами, одним из главных божеств которых был Дионис (Hdt., V, 7).
Вероятно, отнюдь не случайно, что, как и во Фракии, в Скифии изображения самого бога Диониса (вернее, его головы) весьма редки. Они встречаются лишь на бляшках, которые в изобилии обнаружены в курганах Куль-Оба (57 экземпляров трёх типов: Копейкина 1986: № 9 — 11; Уильямс, Огден 1995: № 92)25 и Чертомлык (69 штук: Алексеев 1986: № 21), а также в меньших количествах найдены в курганах Огуз, Александропольский и, вероятно, Мелитопольский (Алексеев 1986: 67). Здесь он изображён юным, с правильными чертами лица, с пышной прической, увенчанный венком из плюща, который был его постоянным атрибутом. Скорее всего, присутствие этих изображений самого бога Диониса свидетельствует о большем приобщении их хозяев к его культу (рис. 11).
Образы спутников Диониса — сатиров и менад (рис. 6: б—д, 13, 14) широко представлены на золотых нашивных бляшках и пластинах, служивших украшениями головных уборов, парадных и погребальных одежд представителей варварской знати, на золотой и серебряной чеканной посуде, а также встречаются в декоре оружия и конской сбруи (Онайко 1970: 116, № 787 в, табл. XLI: 493; и; 494: ж, е; 500: г, е; 501: в, г; табл. XXXIV: 447, в; Русяєва 1995: 23— 25; Фиалко 2003: Кат. № 14: а—в). Обращает на себя внимание сочетание изображений бородатого и безбородого сатиров на уздечных бляхах из кургана Бабина Могила (Мозолевский, Полин, 2005, табл. 7: 1—4) (рис. 10), которое находит полное соответствие в сосуществовании
МАИАСП № 15. 2023
Некоторые особенности культа Диониса у эллинов и варваров Северного Причерноморья аналогичных изображений на монетах Пантикапея. При отсутствии антропоморфных дионисийских персонажей на чашах для питья вина их могут заменять фитоморфные символы Диониса: к примеру, на двух найденных в кургане Солоха серебряных сосудах изобразительные сюжеты обрамлены плющевым орнаментом; см.: (Манцевич 1987: № 60 и 61).
Венок из плюща нередко украшает и головы бородатых сатиров (которые в ряде случаев имеют ярко выраженные звериные черты) на бляшках. Тирс, растерзанное жертвенное животное — характерные атрибуты экстатических спутниц Диониса — присутствуют в иконографии менад на памятниках торевтики; на пяти золотых квадратных бляшках танцующие обращённые друг к другу менады представлены закутанными в плащ с головой, причём одна из них держит в руках кроталы (Копейкина 1986: № 5; Уильямс, Огден 1995: № 90) — прототип позднейших кастаньет. Бляшки с идентичным изображением нигде более не встречаются, однако с конца V и особенно в IV в. до н.э. эта тема приобретает в Северном Причерноморье довольно большую популярность. В греческих захоронениях этого времени встречаются терракоты и фигурные сосуды с изображением танцующих менад и Диониса (Силантьева 1974: табл. 8: 1 и 13: 4, 5).
Трудно сомневаться в том, что идеи и эмоции культа хтонического Диониса оказались близки варварам. В конце VI—V в. до н.э. получает распространение орфический культ Диониса26, где бог выступал в архаической ипостаси Загрея — умирающего (растерзанного) и воскресающего божества, судьба которого вселяла в его адептов надежду на возрождение. Косвенным свидетельством существования орфизма в северопонтийском регионе является бронзовое зеркало, найденное в позднеархаической могиле ольвийского некрополя. Оно уже упоминалось, так же как и костяные пластинки, в которых имя бога упоминается в сочетании с названием его почитателей — орфиков. Судя по всему, орфические и вакхические таинства имели много общего и, вероятно, в V в. до н.э. фиас, объединявший посвящённых, среди которых был царь Скил, находился под каким-то влиянием орфических учений27. Участие в фиасе скифского царя позволяет предполагать, что варварам, у которых существовала вера в бессмертие души28, были близки представления орфиков о загробном блаженстве.
С хтоническими представлениями, близкими дионисийскому культу, могут ассоциироваться, кроме перечисленных выше, уже самые ранние изображения сатиров и силенов, найденные в погребениях эллинизированных скифов и синдов: золотые бляшки в одном из нимфейских курганов (Силантьева 1959: 55) и втором Семибратнем кургане (Piotrovsky et al. 1986: pl. 79). Как и во Фракии, у скифов появление этих дионисийских персонажей на изобразительных памятниках предшествует появлению образа самого Диониса (Шауб 2019а). Поэтому вряд ли можно сомневаться в том, что сатиры воспринимались варварами как часть сущности этого бога (или его воплощение).
Следует особо отметить, что имеются данные о повышенном интересе к персонажам дионисийского круга у сарматов (Яценко 2022)29. В связи с этим особенно показателен сарматский золотой фалар II в. до н.э. (Северский курган, Кубань), на котором в варваризованной манере изображена «гигантомахия» с участием Диониса на пантере и
МАИАСП № 15. 2023
Афины, рядом с которой лежит отсеченная голова одного «гиганта», а другого она держит за волосы (Анфимов 1987: 188). Таким образом, налицо связь сарматского Диониса с культом отсечённой мужской головы, который практиковали причерноморские варвары (Шауб 1987в; 2011: 120). В пантикапейской посвятительной надписи Дионису (КБН 1965: № 15) этот бог имеет эпиклезу Арей, которая встречается только в орфических гимнах. По мнению Л.А. Ельницкого, употребление эпитета Арейос орфиками говорит в пользу связи Диониса этой надписи с фракийским культом Диониса-Сабазия (Ельницкий 1946: 107). Это посвящение может служить ещё одним подтверждением фракийского влияния на духовную жизнь боспорян.
Сабазий, родственный Дионису фрако-фригийский бог растительного плодородия (Picard 1961)30, в V в. до н.э. появился в Афинах. Культ Сабазия, который, что важно отметить, принадлежал кругу малоазийской Великой богини-матери (Буркерт 2004: 311), засвидетельствован граффито-посвящением из домашнего святилища усадьбы № 6 поселения Панское 1 на хоре Херсонеса. Здесь вместе с несколькими терракотовыми статуэтками женского божества был найден чернолаковый сосуд конца IV в. до н.э. с надписью ἰερὰ Σαβάζιου (Гилевич 1989; Щеглов 2000; 2001). Надпись можно понять и как «(килик), посвященный Сабазию», и как «священный (килик) Сабазия» (Скржинская 2009).
Культ этого божества в Херсонесе пока надёжно не засвидетельствован (граффити ΣΑ — не в счёт). Как и откуда культ Сабазия попал на хору Херсонеса, неясно; А.М. Гилевич считает, что из Малой Азии (Гилевич 1989: 76). Эта же исследовательница отнесла к культу Сабазия две подвески в виде многоликой бородатой головы, найденные в том же комплексе, а также обнаруженное рядом с ним миниатюрное серебряное изображение свернувшейся змеи (Гилевич 1989: 72 след.). Допуская большую вероятность данного предположения, А.Н. Щеглов справедливо оговаривается, что все эти предметы могли быть связаны и с другими хтоническими культами. (Ščeglov 2002: 216—217, 220).
Вдохновлённая находкой на поселении Панское 1 граффито с упоминанием Сабазия, М.В. Скржинская считает изображением этого бога целый ряд мраморных скульптур и терракот, ссылаясь на которые она делает вывод о том, что в эллинистический период праздники в честь этого бога справляли как на других сельских поселениях херсонесской хоры, так и в самом городе. Однако специалисты-искусствоведы видят во всех этих памятниках не Сабазия, а Диониса (Иванова 1964; Античная скульптура Херсонеса 1976: passim; Шевченко 2016: 13—14). Та же киевская исследовательница утверждает, что подобные праздники в честь Сабазия проходили также на Боспоре. На это, по её мнению, указывает находка в Фанагории терракотовой статуэтки III—II вв. до н.э., изображающей Диониса — Сабазия (Ельницкий 1946: 97). Несмотря на то, что эта терракота сделана из местной глины, что говорит о спросе боспорян на подобные изделия (Скржинская 2009), для доказательства существования праздников в честь Сабазия этого слишком мало. В то же время и кроме этой терракоты о существовании на Боспоре культа этого бога могут говорить и другие факты.
Так, значительную роль в культе как Диониса, так и Сабазия имел танец. В связи с этим стоит вспомнить любопытное сообщение, которое оставил Лукиан в своем трактате «О танце»: «Вакхический танец, который особенно распространён в Ионии и в Понте, хотя и
МАИАСП № 15. 2023
Некоторые особенности культа Диониса у эллинов и варваров Северного Причерноморья похабный (σατυρικὴ), настолько увлек тамошних людей, что все они в назначенное время забывают все остальное и сидят, наблюдая за титанами, корибантами, сатирами и буколами (βουκόλους)31 — весь день напролет. И те, кто исполняют эти танцы, являются лучшими по рождению и первыми людьми в каждом из городов. Они не только не испытывают смущения, но и гордятся этим фактом, даже больше, чем своим знатным происхождением, литургиями и репутацией своих предков» (Lucian., De saltat., 79 Macleod)32. Прочие особенности этих дионисийских танцев нам неизвестны; кроме того их отличал импровизационный характер (Delavaud-Roux 1995: 45). Более регламентирован был дионисийский танец окласма, запечатленный на серьгах (Калашник 2014: 148—149); на золотых бляшках, перстнях и в терракотах (рис. 15, 16, 17), происходящих из боспорских гробниц. На упомянутых памятниках представлены исполнители этого восточного (персидского) танца, который отличался такими элементами, как хлопки в ладоши (или сцепленные руки) над головой (реже перед собой), а также «присядка». Опираясь на остроумную гипотезу Л. Курциуса, предположившего, что главным персонажем ряда аттических вазовых рисунков конца V в. до. н.э., среди которых выделяются танцоры окласмы (рис. 18), является Сабазий (Curtius 1928: 281 ff.), мы связали изображения танцоров на сакральных предметах, найденных в гробницах Боспора, с культом Сабазия или фракийского Диониса (Шауб 2007а: 341 след.)33. Поскольку этот бог в верованиях его почитателей давал надежду на вечную загробную жизнь (Picard 1961)34, неудивительно, что изображения танцоров его культа помещались в могилы.
Вероятно, тот же бог изображён на акротерии III в. до н.э., происходящем, скорее всего, с территории Боспора. На этом памятнике он представлен крылатым и с растительными побегами вместо ног (что, на наш взгляд, является аналогом змееногости), в варварском одеянии и с фригийским колпаком на голове; в обеих руках он держит львиноголовых грифонов (рис. 19). Этот и подобные ему персонажи Э. Ланглотц считает изображениями Диониса (Langlotz 1932: 181 ff.). П. Кноблаух, возражая Ланглотцу, обратил внимание на тот факт, что Дионис не изображался в варварской одежде (Knoblauch 1938: 356). Однако этот автор не учёл процесс ориентализации, который происходил в культе Диониса с конца V в. до н.э.; см.: (Schefold 1959: 22 ff.) Т. Краус (Kraus 1954: 43) отметил, что, несмотря на определенную разницу в деталях изображений подобных восточных персонажей, речь может идти только об одном и том же божестве, которое он называет Дионисом-Сабазием.
Несомненно, черты как Диониса, так и Сабазия присутствуют и в образе «Владыки зверей», изображения которого представлены на золотой диадеме из Куль-Обы (рис. 20) и ряде других сакральных украшений из курганов Скифии и Боспора (Шауб 2007в; 2021б: 102 след.) (рис. 21)35.
Считается, что самое раннее изображение такого рода представлено на бронзовой пластине начала IV в. до н.э. из Олинфа (Robinson 1941: 30 sq., fig. 6; Valeva 1995: 340, fig. 4). Однако, ещё к VI в. до н.э. относится бронзовый канделябр, происходящий из
МАИАСП № 15. 2023
«ориентализированного пограничья Восточной Ионии» (Hornbostel 1980: 23, Abb. 17). У основания стержня этого канделябра, который служит постаментом для фигуры крылатой богини, в перекрестье подставки из львиных лап в высоком рельефе представлена фигура бородатого божества с крыльями, выходящего из пышной пальметты. Эта композиция наглядно свидетельствует о том, что подобные бородатые персонажи ещё с архаической эпохи мыслились как божества, подчиненные малоазийской Великой богине (Шауб 2008а: 55).
Поклонение Дионису, безусловно, составляло часть культурного наследия как Милета (Ehrhardt 1983: 169), так и других метрополий греческих причерноморских полисов. Однако столь же несомненно, что распространению в его западнопонтийских колониях вакхического культа особенно благоприятствовали религиозные традиции тесно связанного с ними местного фракийского населения (Chiekova 2007: 24).
По мнению Д. Чековой, греческие жители городов Западного Причерноморья, оставаясь верными культурному наследию метрополии, «в то же время были способны воспринять религиозные ценности своих «варварских» соседей» (Chiekova 2007: 30). В свете всего вышеизложенного, выводы, сделанные болгарской исследовательницей о сохранении культурных традиций метрополии при существенном влиянии фракийского окружения на религиозную жизнь колоний Западного Понта, можно с полным правом отнести и к Боспору с его греко-варварским населением и элитой.
Итак, анализ имеющихся в нашем распоряжении памятников позволяет уверенно предполагать, что особенности культа Диониса в греческих колониях Северного Причерноморья в значительной степени были обусловлены не только консервацией здесь архаических черт в этом культе, но и мощными фракийскими влияниями. Судя по находкам лепной керамики, фракийцы (геты) жили и в архаической Ольвии (Марченко 1988), а на Боспоре с 438 г. до н.э. правила фракийская по своему происхождению династия Спартокидов36. Не следует забывать и тот факт, что фракийские и скифские племена веками находились не только в близком соседстве, но и в тесном этнокультурном взаимодействии37. Находки в курганах скифской и синдской знати разнообразных вещей, чаще всего культового назначения, с изображениями персонажей дионисийского круга неоспоримо свидетельствуют не только о том, что эллинский культ Диониса был хорошо известен причерноморским варварам38, но и о близости этих персонажей местным религиозномифологическим представлениям39.
МАИАСП № 15. 2023
Некоторые особенности культа Диониса у эллинов и варваров Северного Причерноморья
Список литературы Некоторые особенности культа Диониса у эллинов и варваров Северного Причерноморья
- Алексеев А.Ю. 1986. Нашивные бляшки Чертомлыкского кургана. В: Грач Н.Л. (ред.). Античная торевтика. Ленинград: Государственный Эрмитаж, 64—74.
- Андреев Ю.В. 2002. От Евразии к Европе. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин.
- Анохин В.А. 1989. Монеты античных городов Северо-Западного Причерноморья. Киев: Наукова думка.
- Античная скульптура Херсонеса 1976: Иванова А.П., Чубурова А.П. (сост.). 1976. Античная скульптура Херсонеса. Киев: Мистецтво.
- Анфимов Н.В. 1987. Древнее золото Кубани. Краснодар: Краснодарское книжное издательство.
- Артамонов М.И. 1966. Сокровища скифских курганов. Ленинград: Советский художник; Прага: Артия.
- Бессонова С.С. 1983. Религиозные представления скифов. Киев: Наукова думка.
- Буркерт В. 2004. Греческая религия. Архаика и классика. Санкт-Петербург: Алетейя.
- Виноградов Ю.А. 2014. Ещё раз о кургане у села Баксы в восточном Крыму. БИ XXXIV, 529—534.
- Винокуров Н.И. 2002. Античный социум: культ вина и винограда. БИ II, 27—88.
- Ганша О.Д. 1974. Кшвский музей ¡сторичних коштовностей. Кшв: Мистецтво.
- Гергова Д. 1996. Обредът на обезсмъртяването в древна Тракия. София: Агато.
- Гилевич А.М. 1983. О культе Сабазия в Херсонесе. В: Краткие тезисы докладов научной конференции «Древние культуры Евразии и античная цивилизация», 10—13 мая 1983. Ленинград: Государственный Эрмитаж, 35—36.
- Дарчиев А.В. 2014а. Фракийские элементы в религии скифов и Нартовский эпос осетин (Цикл сказаний о Бартазе). Современные проблемы науки и образования 6. URL: https://science-education.ru/ru/article/ view?id=16945 (дата обращения 31.05.2023).
- Дарчиев А.В. Черты военного божества в образе фракийского Диониса. Современные проблемы науки и образования 6. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=17033 (дата обращения 31.05.2023).
- Жижина Н.К. 2007. Гипсовый рельеф в погребальных памятниках Европейского Боспора первых веков н.э. (по материалам коллекции Государственного Эрмитажа). Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Санкт-Петерсбург.
- Зайцева К.И. 1971. Ольвийские культовые свинцовые изделия. В: Горбунова К.С. (отв. ред.). Культура и искусство античного мира. Ленинград: Аврора, 4—106.
- Зинько Е.А. 2007. Миф о Коре-Персефоне в боспорской монументальной живописи. В: Зуев В.Ю. (отв. ред.). Боспорский феномен: сакральный смысл региона, памятников, находок. Ч. I. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 115—117.
- Жмудь Л.Я. 1992. Орфические граффити из Ольвии. В: Гаврилов А.К. (отв. ред.). Этюды по античной истории и культуре Северного Причерноморья. Санкт-Петербург: Глаголъ, 94—110.
- Иванов В.И. 1994. Дионис и прадионисийство. Санкт-Петербург: Алетейя.
- Иванов В.И. 2014. Эллинская религия страдающего Бога. Символ 64.
- Иванова А.П. 1964. Скульптурные изображения Диониса из Херсонеса. СА 2, 134—139.
- Ильина Т.А., Муратова М.Б. 2002. Вотивные терракоты из храма на акрополе Пантикапея. БЧ 3. Боспор Киммерийский, Понт и варварский мир в период античности и средневековья. Керчь: Центр археологических исследований, 115—121.
- Карышковский П.О. 1988. Монеты Ольвии. Киев: Наукова думка.
- КБН 1965: Струве В.В. (ред.). 1965. Корпус боспорских надписей. Москва; Ленинград: Наука.
- Кереньи К. 2007. Дионис: Прообраз неиссякаемой жизни. Москва: Ладомир.
- Копейкина Л.В. 1986. Золотые бляшки из кургана Куль-Оба. В: Грач Н.Л. (ред.). Античная торевтика. Лениград: Государственный Эрмитаж, 28—63.
- Кузина Н.В. 2005. Праздники в честь Диониса в античных государствах в Северном Причерноморье. БЧ V. Боспор Киммерийский, Понт и варварский мир в период античности и средневековья. Этнические процессы. Керчь: Центр археологических исследований, 212—219.
- Кузина Н.В. 2007а. Дионисийская символика в погребальной обрядности населения античных центров Северного Причерноморья. БИ XVI, 112—129.
- Кузина Н.В. 2007б. Особенности отправления культа Диониса в сакральных комплексах Северного Причерноморья. В: Зуев В.Ю. (отв. ред.). Боспорский феномен: сакральный смысл региона, памятников, находок. Ч. I. Санкт-Петербург: Госудаственный Эрмитаж, 36—47.
- Кузина Н.В. 2008. Культ Диониса в античных государствах Северного Причерноморья: содержание, общественно-политический аспект, локальная специфика. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Иваново.
- Кузина Н.В. 2011. К вопросу о распространении культа Диониса среди местного варварского населения Северного Причерноморья. В: Вахтина М.Ю., Грицик Е.В., Жижина Н.К., Иванов С.В., Зуев В.Ю., Кашаев С.В., Соколова О.Ю., Хршановский В.А. (ред.). Боспорский феномен. Население, языки, контакты. Материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург: Нестор-История, 649—654.
- Кузина Н.В. 2013. К вопросу о происхождении культа Диониса. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского 4 (1), 252—259.
- Кузнецова Т.М. 1984. Анахарсис и Скил. КСИА 178, 11—17.
- Лебедев А.В. 1986. Происхождение имени Орфей. В: Иванов В.И., Нерозняк В.П., Топоров В.Н., Цивьян Т.В. (ред.). Балканы в контексте Средиземноморья. Проблемы реконструкции языка и культуры. Тезисы и предварительные материалы к симпозиуму. Москва: Наука, 37—40.
- Леви Е.И. 1956. Ольвийская агора. МИА 50, 35—118.
- Леви Е.И. 1959.Терракоты из цистерны ольвийской агоры. КСИИМК 74, 9—19.
- Леви Е.И. 1964. Материалы ольвийского теменоса. В: Гайдукевич В.Ф. (отв. ред.). Ольвия. Теменос и агора. Москва; Ленинград: Наука, 131—174.
- Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. 1999. Меотские реплики древнегреческих канфаров. В: Вахтина М.Ю., Зуев В.Ю., Рогов Е.Я., Хршановский В.А. (ред.). Боспорский феномен: греческая культура на периферии античного мира: материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 262—270.
- Лосева Н.М. 1974. Аттический краснофигурный стамнос, найденный в Керчи. Сообщения ГМИИ 7, 125—132.
- Манцевич А.П. 1987. Курган Солоха. Ленинград: Искусство.
- Маразов И. 1992. Мит, ритуал и изкуство у траките. София: Св. Климент Охридски.
- Маразов И. 2001. Фиалата от Кул Оба — образът на «другия» в изкуството на скитите. МИФ 7, 360—424.
- Марти А.Ю. 1940. Детское погребение IV в. до н.э. из кургана близ Тиритаки. СА 6, 120—129.
- Марченко К.К. 1988. Варвары в составе населения Березани и Ольвии. Ленинград: Наука.
- Масленников А.А. 1981. Население Боспорского государства в VI—II вв. до н.э. Москва: Наука.
- Мозолевский Б.Н., Полин С.В. 2005. Курганы скифского Герроса IVв. до н.э. Бабина, Водяна и Соболева Могилы. Киев: Стилос.
- Молева Н.В. 2003. Культ Диониса в боспорском городе Китее. Из истории античного общества 8, 74—81.
- ОАК 1859: ОАКза 1859 г. 1862. Санкт-Петербург: Типография Главного управления уделов.
- ОАК 1864: ОАК за 1864 г. 1865. Санкт-Петербург: Типография Главного управления уделов.
- ОАК 1868: ОАК за 1868 г. 1870. Санкт-Петербург: Типография Главного управления уделов.
- Онайко Н.А. 1970. Античный импорт в Приднепровье и Побужье. Москва: Наука (САИ Д1-27).
- Раевский Д.С. 1980. Эллинские боги в Скифии? (К семантической характеристике греко-скифского искусства). ВДИ 1, 49—71.
- Розанова Н.П. 1968. Бронзовое зеркало с надписью из Ольвии. В: Гайдукевич В.Ф. (отв. ред.). Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. К 100-летию со дня рождения акад. С.А. Жебелёва. 1867—1967. Ленинград: Наука, 248—251.
- Ростовцев М.И. 1914. Античная декоративная живопись на Юге России. Санкт-Петербург: Императорская Археологическая комиссия.
- Ростовцев М.И. 1925. Скифия и Боспор. Критическое обозрение памятников литературных и археологических. Ленинград: РАИМК.
- Ростовцев М.И., Степанов П.К. 1917. Эллино-скифский головной убор. ИАК 63, 69—101.
- Русяева А.С. 1976. Рельефш зображення Дюнюа та Арiадни на посудi з Ольвй. Археолог1я 20, 36—42.
- Русяева А.С. 1978. Орфизм и культ Диониса в Ольвии. ВДИ 1, 87—104.
- Русяева А.С. 1979. Земледельческие культы в Ольвии догетского времени. Киев: Наукова думка.
- Русяева А.С. 1992. Религия и культы античной Ольвии. Киев: Наукова думка.
- Русяева А.С. 2005а. Религия понтийских эллинов в античную эпоху: Мифы. Святилища. Культы олимпийских богов и героев. Киев: Стилос.
- Русяева А.С. 2005б. Региональные особенности культа Диониса в Причерноморье. БИ IX, 65—83.
- Русяева М.В. 1995. Дютсшсю сюжети на пам'ятках торевтики iз сюфських кургашв. Археолог1я 1, 22—34.
- Силантьева Л.Ф. 1959. Некрополь Нимфея. МИА 69, 5—107.
- Силантьева П.Ф. 1974. Терракоты Пантикапея. Терракотовые статуэтки. Ч. III. Пантикапей. Москва: Наука (САИ Г1-11), 5—37.
- Скржинская М.В. 1984. Зеркала архаического периода из Ольвии и Березани. В: Анохин В.А. (ред.).
- Античная культура Северного Причерноморья. Киев: Наукова думка, 105—129.
- Скржинская М.В. 2009. Древнегреческие праздники в Элладе и Северном Причерноморье. Киев: Институт всеобщей истории НАНУ.
- Терещенко А.Е. 2012. Аполлонийско-дионисийские мотивы в сюжетах монет пантикапейской чеканки домитридатовской эпохи. Stratum plus 6, 1—50.
- Уильямс Д., Огден Д. 1995. Греческое золото: ювелирное искусство классической эпохи V—IVвека до н. э. Санкт-Петербург: Славия.
- Фиалко Е.Е. 2003. Золотые бляшки из кургана Огуз. РА 1, 124—133.
- Фол А. 1991. Тракийският Дионис. Книга първа: Загрей. София: Св. Климент Охридски.
- Фол А. 1994. Тракийският Дионис. Книга втора: Сабазий. София: Св. Климент Охридски.
- Фракийское золото 2013: Журавлев Д., Фирсов К. (ред.). 2013. Фракийское золото. Ожившие легенды. Москва: Кучково Поле.
- Хамула Д.В. 2009. Дионис в античной коропластике и вазописи Северного Причерноморья: семантика в контексте культа. Одесса: Удача.
- Хамула Д.В. 2013. Дионис в Северном Причерноморье: искусство и культ. Одесса: Печатный Дом.
- Цымбурский В.Л. 2002. Имя Диониса. В: Казанского Н.Н. (ред.). Классическая филология и индоевропейское языкознание. Санкт-Петербург: Наука, 141—166.
- Шауб И.Ю. 1987а. Культы и религиозные представления населения Боспора VI—IV веков до н.э. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Ленинград.
- Шауб И.Ю. 1987б. Погребения кургана Большая Близница как источник по истории религиозных представлений жителей Боспорского царства. КСИА 191, 27—33.
- Шауб И.Ю. 1987в. К вопросу о культе отрубленной человеческой головы у варваров Северного Причерноморья и Приазовья. В: Раев Б.А. (отв. ред.). Античная цивилизация и варварский мир в Подонье-Приазовье: тезисы докладов к семинару. Новочеркасск: Музей истории донского казачества, 16.
- Шауб И.Ю. 1988. Культовые танцы на Боспоре. В: Павленко Л.В. (ред.). Проблемы античной культуры: тезисы докладов к конференции. Ч. 3. Симферополь: СГУ им. М.В. Фрунзе, 225—226.
- Шауб И.Ю. 1989. О синкретизме Аполлона и Диониса на Боспоре в IV в. до н.э. В: Кошеленко Г.А. (ред.). Проблемы исследования античных городов: Тезисы докладов III научных чтений, посвященных памяти В.Д. Блаватского. Москва: ИА АН СССР, 128—129.
- Шауб И.Ю. 1993б. Парис на Боспоре. КСИА 207, 67—69.
- Шауб И.Ю. 1999а. Культ Великой богини у местного населения Северного Причерноморья. Stratum plus 3, 207—224.
- Шауб И.Ю. 1999б. Некоторые аспекты культа Диониса на Боспоре в IV в. до н.э. В: Вахтина М.Ю., Зуев В.Ю., Рогов Е.Я., Хршановский В.А. (ред.). Боспорский феномен: греческая культура на периферии античного мира: материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 133—136.
- Шауб И.Ю. 2000. О семантике образа Европы. В: Зуев В.Ю. (отв. ред.). LYLLITIA. Памяти Ю.В. Андреева. Санкт-Петербург: Алетейя, 122—125.
- Шауб И.Ю. 2006. Черты дионисийского мифа в легенде о скифском царе Скиле. АМА 12, 345—350.
- Шауб И.Ю. 2007а. Миф, культ, ритуал в Северном Причерноморье VII—IV вв. до н.э. Санкт-Петербург: СПбГУ.
- Шауб И.Ю. 2007б. Образ «Владыки зверей» на Боспоре и в Скифии. В: Зуев В.Ю. (отв. ред.). Боспорский феномен: сакральный смысл региона, памятников, находок. Ч. I. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 27—30.
- Шауб И. Ю. 2008а. Италия-Скифия: культурно-исторические параллели. Москва; Санкт-Петербург: Свято-Алексеевская пустынь.
- Шауб И.Ю. 2008б. Культ Диониса и свинцовые вотивы из Ольвии. АВ 15, 112—117.
- Шауб И.Ю. 2011. Эллинские традиции и варварские влияния в религиозной жизни греческих колоний Северного Причерноморья (VI—IVвв. до н.э.). Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
- Шауб И.Ю. 2014. Боспорские курганы и загробные представления боспорян. БИ ХХХ, 639—694.
- Шауб И.Ю. 2015. Ожерелье с амулетами из кургана Большая Близница. Новый Гермес 6, 22—29.
- Шауб И. Ю. 2017. Боспорское жречество. БИ XXXIV. Элита Боспора Киммерийского: Традиции и инновации в аристократической культуре доримского времени, 288—324.
- Шауб И.Ю. 2019а. К вопросу об интерпретации образов дионисийского круга на монетах Пантикапея. ЗИИМК РАН 21, 73—81.
- Шауб И.Ю. 20196. Ценный вклад в изучение духовной культуры Боспорского царства. Рец. на кн. : Braund David. Greek Religion and Cults in the Black Sea Region: Goddesses in the Bosporan Kingdom from the Archaic Period to the Byzantine Era. Cambridge University Press, 2018. — xvi + 314 p. АВ 25, 245—261.
- Шауб И.Ю. 2020. Смерть и возрождение: загробный мир боспорян. Санкт-Петербург: Евразия.
- Шауб И.Ю. 2021а. Горгона в религии меотов. МАИАСП 13, 701—714. DOI: 10.53737/27132021.2021.44.40.021.
- Шауб И.Ю. 2021б. Золотое ожерелье. В: Виноградов Ю.А., Медведева М.В. (ред.). Первый Мордвиновский курган. Санкт-Петербург: ИИМК РАН, 102—110.
- Шауб И.Ю. 2023. О погребениях в херсонесском подстенном склепе № 1012 и их интерпретации. ЗИИМК РАН 28, 23—35.
- Шауб И.Ю., Терещенко А.Е. 2021. Подтверждается ли гипотеза М.И. Ростовцева о фракийском происхождении образов сатиров на монетах Пантикапея? АВ 33, 71—77.
- Шауб И.Ю., Яценко С.А. 2022. Меотский псалий с уникальным изображением. Новый Гермес 14.1, 4—19.
- Шевченко А.В. 2016. Терракоты античного Херсонеса и его ближней сельской округи. Симферополь: Наследие тысячелетий.
- Шелов Д.Б. 1950. К вопросу о взаимодействии греческих и местных культов в Северном Причерноморье. КСИИМК 34, 62—69.
- Шелов-Коведяев Ф.В. 2018. Древнегреческая поэзия на Боспоре. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского 6, 71—80.
- Шепард Г. 2010. К вопросу об истоках культа Диониса. В: Яровой Е.В. (отв. ред.). Индоевропейская история в свете новых исследований (Сборник трудов конференции памяти профессора В.А. Сафронова). Москва: МГОУ, 295—308.
- Шталь И.В. 1989. Эпические предания Древней Греции. Москва: Наука.
- Шталь И.В. 1996. Аримаспы и грифы: миф, культ, эпос. Приложение: указатель мифоэпических сюжетов вазовой росписи керченского стиля из собрания музеев Российской Федерации. В: Шталь И.В. (ред.). Классическая филология на современном этапе. Москва: Наследие, 29—45.
- Щеглов А. Н. 2000. О времени появления культа Сабазия на северных берегах Понта: состояние изученности, источники, интерпретация, реконструкция. В: Савинов Д.Г. (отв. ред.). Святилища: археология ритуала и вопросы семантики. Материалы тематической научной конференции, Санкт-Петербург, 14—17 ноября 2000 г. Санкт-Петербург: СПбГУ, 67—73.
- Щеглов А.Н. 2001. К изучению культа Сабазия в Херсонесе: состояние изученности, источники, интерпретация, реконструкция. В: Марченко Л.В. (ред.-сост.). Херсонес Таврический: у истоков мировых религий. Севастополь: НЗХТ, 52—61.
- Эткинд А. 1998. Хлыст (Секты, литература и революция). Москва: НЛО.
- Ягги О., Лазенкова Л. 2012. Аттические краснофигурные вазы IVв. до н.э. из собрания Керченского историко-культурного заповедника. Киев: Мистецтво.
- Яценко С.А. 2022. Боги сарматов. МАИАСП S1, 143—186. DOI: 10.53737/2713-2021.2022.89.30.006.
- ABC: Reinach S. 1892. Antiquités du Bosphore Cimmérien. Paris: Didot.
- Alexandrescu P. 1966. Le symbolisme funéraire dans une tombe de la péninsule de Taman. StCI 8, 75—86.
- Burkert W. 2004. Babylon, Memphis, Persepolis: Eastern Contexts of Greek Culture. Cambridge: Harvard University Press.
- Chiekova D. 2007. Cults of the Greek cities en aristera tou Pontou: Interaction of Greek and Thracian traditions. Electronic Antiquity. Iss. 11.1 . November.
- Curtius L. 1928. Sardanapal. JdI 43, 179—202.
- Delavaud-Roux M.-H. 1995. Les dances dionysaques en Grèce antique. Aix en Provence: l'Université de Provence.
- Ehrhardt N. 1983. Milet und seine Kolonien. Frankfurt am Main; Bern; New-York: P. Lang.
- Gicheva R. 1997. Sabazios. LIMC 8, 1068—1071.
- Gimbutas M. 1989. The Language of the Goddess. New York: Thames and Hudson.
- Hornbostel W.1980. Aus Gräbern und Heiligtümern: die Antikensammlung Walter Kropatscheck. Mainz: von Zabern.
- IOSPE I2: Latyschev B. 1916. Inscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. Vol. I. Petropoli: Императорская академия наук.
- Knoblauch P. 1938. Attische Figurenvasen des 4. Jahrh. v. Chr. AA 20, 336—357.
- Kraus Th. 1954. Bemerkungen zum Sessel des Dionysospriesters im Athener Dionysostheater. JdI 69, 32—48.
- Langlotz E. 1932. Dionysos. Die Antike 8, 172—183.
- LSJ: Liddell H.G., Scott R. (comp). 1996. A Greek-English Lexicon. Oxford: University Press.
- Manzewitsch A. 1932. Ein Grabfund aus Chersonnes. Leningrad: Akademie für Geschichte der materiellen Kultur.
- Meuli, K. 1935. Scythica. Hermes 70, 121—176.
- Nilsson M.P. 1967. Geschichte der griechischen Religion. 3 Aufl. Bd. I. München: Beck.
- Penkova E. 2003. Orphic Graffito on a Bone Plate from Olbia. Thracia 15, 605—619.
- Picard Ch. 1961. Sabazios, dieu thraco-phrygien, expansion et aspects nouveaux de son culte. RA 11, 129—176.
- Popova R. 2009. The road of Sabazios to the northern coasts of the Black Sea: The Bosporan Kingdom. Thracia 18, 165—184.
- Piotrovsky et al. 1986: Piotrovsky B., Galanina L., Grach N. 1986. Scythian Art. The Legacy of the Scythian World: mid — 7th to 3r century B.C. Leningrad: Aurora Art Publishers.
- Robinson D.M. 1941. Excavations at Olynthos. Vol. X. Baltimore: The Johns Hopkins Press; London: Humphrey Milford; Oxford: Oxford University Press.
- Rostovtzeff M. 1922. Iranians and Greeks in South Russia. Oxford: Clarendon Press.
- Schauenburg K. 1953. Pluton und Dionysos. JdI 68, 38—72.
- Schefold K. 1934. Untersuchungen zu den Kertscher Vasen. Berlin; Leipzig: Walter de Gruyter & Co.
- Schefold K. 1959. Griechische Kunst als religiöses Phänomen. Hamburg: Rowohlt.
- Schefold K. 1960. Meisterwerke griechischer Kunst. Basel-Stuttgart: B. Schwabe.
- Valeva Ju. 1995. The Sveshari Figurines (an Attempt to Specify Several Hypotheses). Thracia 11, 337—352.
- Wace A.J.B. 1929. The Lead Figurines. In: Dawkins R.M. (ed.). The Sanctuary of Artemis Orthia at Sparta. London: Macmillan and Co., 249—284.
- West M L. 1982. The Orphics in Olbia. ZPE 45, 17—29.
- Wright G.R.H., 2003. Orpheus with his Head. Thracia 15, 179—189.