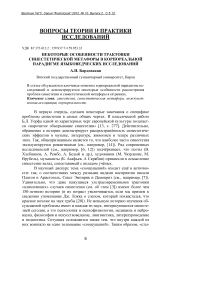Некоторые особенности трактовки синестетической метафоры в корпореальной парадигме языковедческих исследований
Автор: Бардовская Анастасия Игоревна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории и практики исследований
Статья в выпуске: 2, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждаются ключевые моменты корпореальной парадигмы исследований и демонстрируются некоторые особенности рассмотрения проблем синестезии и синестетической метафоры в её рамках.
Синестезия, синестетическая метафора, межчувственная ассоциация, корпореальность
Короткий адрес: https://sciup.org/146120978
IDR: 146120978 | УДК: 81’373.612.2
Текст научной статьи Некоторые особенности трактовки синестетической метафоры в корпореальной парадигме языковедческих исследований
В первую очередь, сделаем некоторые замечания о специфике проблемы синестезии в самых общих чертах. В классической работе Б.Л. Уорфа одной из характерных черт европейской культуры полагается «нарочитое обыгрывание синестезии» [13, с. 277]. Действительно, обращение к истории демонстрирует распространённость синестетиче-ских эффектов в музыке, литературе, живописи и театре различных эпох. Так, общепризнанным является то, что наиболее часто синестезия эксплуатируется романтиками (см., например, [14]). Ряд современных исследователей (см., например, [6; 12]) подчёркивает, что поэты (В. Хлебников, А. Рембо, А. Белый и др.), художники (М. Чюрленис, М. Врубель), музыканты (Б. Асафьев, А Скрябин) привнесли в осмысление синестезии вклад, сопоставимый с вкладом учёных.
В научный дискурс тема «соощущений» входит ещё в античности: так, о соответствиях между разными видами восприятия писали Платон и Аристотель, Секст Эмпирик и Демокрит (см., например, [7]). Удивительно, что даже кажущиеся ультрасовременными трактовки «клинических» случаев синестезии (см. об этом [3]) имеют более чем 150-летнюю историю (и их возраст увеличивается, если мы примем к сведению упоминание Дж. Локка о слепом, который похвастался, что красное похоже на звук трубы [20]). Не меньшую историю изучения обсуждаемой проблемы имеет и каждая из наук, интересующихся синестезией сегодня, а это психология и психофизиология, медицина и нейронаука, философия и искусствоведение, лингвистика, литературоведение и педагогика. Ситуация осложняется также тем, что внутри каждой из них возникло не одно толкование «соощущений». Таким образом, «сты- ковый» характер явления обусловлен едва ли не равным интересом, во-первых, со стороны науки и искусства, и, во-вторых, со стороны представителей широкого спектра наук, в центре внимания которых находится человек.
Следует, однако, подчеркнуть, что, несмотря на кажущуюся широту охвата, синестезия остается малоизученной, и, обращаясь к посвящённой ей литературе, мы по-прежнему встречаем больше вопросов, чем ответов (см., например, [1]). Вместе с тем, неуклонно растущее с конца прошлого века внимание специалистов к различным формам интермодального восприятия, обусловливающее неутихающий «синесте-тический бум» (термин Б.М. Галеева [6]) в разных отраслях человеческой деятельности, даёт надежду на то, что рано или поздно загадка «соощущений» будет разгадана. Удачным описанием складывающейся ситуации представляется данное одним из ведущих современных отечественных специалистов в области синестезии Л.П. Прокофьевой:
«Не вызывает сомнений, что, пройдя через этап раздробления, рождения новых направлений, наука подошла к эпохе синтеза. В случае с синестезией – это ещё и этап соединения ручейков и притоков стран, мнений, эмпирического и практического опыта в магистральное направление. Только сейчас оформляется научная теория синестезии, только сейчас апробируются методики её исследования, но уже можно говорить о многослойно-сти феномена, его глубинной психофизиологической основе и различных способах проявления…» [12, с. 3 – 4].
Не будет преувеличения, если мы скажем, что в наблюдаемый сегодня «синестетический бум» оказываются вовлечены не только специалисты, но и обычные люди, те, кто вряд ли когда-то слышал о существовании термина «синестезия». Ведь молниеносно распространяющиеся в современном мире технологии, в первую очередь, Интернет и телевидение, пожалуй, как ничто ранее, апеллируют к способности человека неосознанно устанавливать соответствия между цветом и звуком, запахом и вкусом и т.п. То, что некогда считалось экзотикой (вспомним, к примеру, диковинные изобретения прошлых веков вроде цветовых клавикордов) в буквальном смысле входит в наш дом.
Приведём пример доступности «синестетического опыта» в повседневной жизни. Многим известна телереклама шоколада «”Дав” – шёлковый шоколад», где текст, представляющий собой развёрнутую си-нестетическую метафору (нежный, как шёлк, обволакивающий, роскошный и т.д.), произносит женский голос на фоне видеоряда, в котором девушка «обволакивается» лёгким, струящимся шёлком, а шоколад, подобно шёлку, течёт и плавно превращается в шёлковые розы. Немногим, однако, известно то, что в данном случае наше воображение проделывает довольно сложную работу, устанавливая небывалые, на первый взгляд, соответствия между вкусом / текстурой шоколада и текстурой / лёгкостью шёлка. Аналогичный пример английской телерекламы приводит автор [17]: фраза Why wear cotton, if you can wear silk? («Зачем одеваться в хлопок, если вы можете носить шёлк?») указывает на то, что в нашем воображении степенями мягкости обладают не только ткани, но и вкусы.
Несмотря на распространённость подобных примеров (о чём свидетельствуют исследования синестетических метафор на материале различных языков, например, [5; 10; 11], см. также табл. 1, 2), они долгое время находились на периферии научного интереса. Причина этого очевидна: темы воображения, ассоциативных форм мышления, субъективных переживаний и т.п. не получали широкого освещения у учёных прошлого столетия, ставивших во главу угла рациональность и стремившихся к объяснению всего и вся законами разума.
Таблица 1
Примеры синестетических метафор модели ЦВЕТ ^ ЗВУК из разных языков мира
|
Языки |
Метафоры |
|
Русский |
цветной слух |
|
Немецкий |
farbige Melodien досл. «цветные мелодии» |
|
Английский |
colourful music досл. «цветная музыка» |
|
Французский |
audition coloree досл. «цветной слух» |
|
Баскский |
ahorts zuri досл. «белый голос», т.е., сопрано |
|
Татарский |
яшелле-кукле тавышлар досл. «зелено-голубые голоса» |
Таблица 2
Примеры индивидуально-авторских синестетических метафор
|
Автор |
Метафоры |
|
В. Набоков |
|
|
В. Гюго |
Un bruit farouche, obscur, fait avec des tenebres («Пугливый, темный шум, сделанный из теней» |
|
Г. Тракль |
Nach Fruchten tastet silbern deine Hand (где silbern формально является наречием, «Серебряной рукой срываешь плод») |
|
Д. Лондон |
voice ... like a wind of coolness («голос... как холодный ветерок») |
|
М. Шолохов |
многоцветный запах |
|
М. Горький |
звуки ползли... как дым |
Однако после почти векового забвения синестетические метафоры (далее - СМ) оказываются, если можно так выразиться, вознаграждены вдвойне и привлекают исследователей не только сами по себе, как малоизученный объект, но и как один из отправных моментов в обсуждении актуальной проблемы body in the mind. Представляя собой вербальные фиксации синтеза разномодальных ощущений, СМ закономерно помещаются в центр внимания учёных в эпоху синтеза разнообразных знаний о человеке и становления его целостной, «интегрированной» трактовки как единства души и тела, психического и соматического [2; 4].
Предпринимая попытку рассмотрения СМ под углом зрения «телесной» парадигмы, следует, однако, остерегаться поспешных выводов о тождественности этого языкового явления и феномена телесности. В частности, несомненного интереса в данном случае заслуживает трактовка специфики корпореальной парадигмы, принадлежащая А.А. За-левской, которая обращает внимание на неверные толкования термина «корпореальность», приписываемые ему многими отечественными читателями (кто-то увязывает его с «наивной анатомией», с отображением в языке различных органов человека, их функций и т.п., кто-то ассоциирует этот термин с исследованиями аксиологических особенностей толкования соматизмов представителями разных культур, кто-то - с анализом лексических полей, связанных с телом человека и его функционированием). На самом деле становление такого подхода сигнализирует о «новом витке в развитии теории языка и делает предметом дискуссий многие вопросы, считавшиеся ранее решёнными или получившие статус “вечных”» [9, с. 245]. По мысли автора, к числу подобных вопросов относятся следующие: является ли язык автономной сущностью, как он соотносится с невербальными знаковыми системами и как он вообще может что-то означать, как соотносятся между собой языковые и энциклопедические знания человека и в чём состоит тайна семиозиса, благодаря чему происходит взаимопонимание между людьми, в том числе, принадлежащими к разным культурам и т.п. Происходит переход от трактовки языка как самодостаточной сущности к пониманию невозможности его отрыва от других психических процессов, а «души» - от «тела», которое «остается действующим, реальным, базовым даже в самых, казалось бы, абстрагированных “полетах мысли”» [там же], восстанавливается роль тела как основы языковой коммуникации.
Важным положением корпореальной семантики является также указание на то, что пути, посредством которых мы находимся в контакте с нашим окружением, в семиотических терминах выступают в роли разных невербальных прочтений мира, и чем больше таких прочтений используется, тем более реален наш мир [19]. При этом невербальные знаки составляют глубинную структуру языка, а значение является ассоциацией между невербальными и вербальными знаками. Приверженцы этого подхода считают, что язык, представляющий собой упорядоченную последовательность слов, сам по себе пуст, и означаемые тре- буют тела и эмоций для того, чтобы стать семантически функциональными. Таким образом, с их точки зрения, язык сам по себе ничего не значит, но паразитирует на невербальных знаках, которые представляют собой элементы тактильного, обонятельного, вкусового, слухового, зрительного и других видов перцептивного опыта человека и их фантазийные варианты [цит. раб.].
В связи со сказанным, важным для современного, ориентированного на корпореальную семантику языковедческого исследования представляется последовательное акцентирование различий между синестезией как психофизиологическим феноменом, функционирующим на разных уровнях осознаваемости, и её разнообразными вербальными фиксациями, являющимися традиционным объектом наблюдений языковеда. Подчеркнём, что такой подход не принципиально нов для лингвистики. В частности, в работах отечественных исследователей повсеместно присутствует ссылка на гипотезу И.Н. Горелова о психофизиологической мотивированности проявлений синестезии на разных уровнях языка [8], выводящую на потребность учёта таких различий. Уместным здесь представляется также вспомнить положение из цитированной выше работы Б.Л. Уорфа, который, помещая проблему языковой метафоры в более широкий контекст проблемы синестезии, вместе с тем, настаивает на их разграничении. Напомним, что синестезия, определяемая в цитируемой работе как «возможность восприятия с помощью органов какого-то одного чувства явлений, относящихся к области другого чувства» [13, с. 277] возникает, по мысли автора, «из более глубокого источника» [там же] по сравнению с языковой метафорической системой. «Возможно, метафора возникает из синестезии, а не наоборот», – заключает Б. Л. Уорф [там же].
В более современной терминологической «упаковке» идею о взаимосвязи, но не идентичности синестезии и её вербальных манифестаций озвучивают Т. Икегами и Й. Златев [16]. Теория, предлагаемая этими учёными, стремится к адаптации современных нейропсихологических теорий синестезии для нужд языковедческого исследования. Напомним, что, по мнению нейропсихологов, связь синестезии с языком не ограничивается метафорами (напротив, признанный авторитет в современном «синестезиеведении» нейропсихолог Р. Сайтовик подчеркивает, что подлинная синестезия – явление отличное от метафор, звуко-символизма и т.п., которые также традиционно именуются «синестезией»: будучи связанными с семантическими процессами, они претендуют лишь на то, чтобы быть чем-то похожим на синестезию, «псевдосинестезией») [15]. Причина же глубокой связи между языком и синестезией, по мысли нейропсихологов, кроется в особенностях функционирования головного мозга, где поистине «все связано со всем».
Предпринимая попытку адаптации нейропсихологических теорий синестезии для нужд языковедческого исследования, Икегами и Златев предлагают понимание СМ как явления квазиперцептивного, т.е., напоминающего сенсорное восприятие. Таким образом, утверждается продуктивность использования СМ в качестве инструмента для изучения внутреннего мира человека и одного из ключиков к самой синестезии, но подчеркивается, что влияние механизмов синестезии в языке не ограничивается лишь метафорами, а релевантно для значения в целом (ср. с гипотезой В.С. Рамачандрана и Е.М. Хаббарда о «синесте-тическом происхождении» языка [18]).
«Во внутреннем пространстве значений превалируют разного рода кросс-модальные наложения, определяющие гармоничный, мультимодальный окружающий субъекта мир. Синестезия может оказаться лишь вершиной айсберга, демонстрирующего важность соответствующих и несоответствующих друг другу модальностей» [16. Перевод мой. – А.Б.].
Таким образом, в современной науке осуществляются первые попытки интеграции данных из различных областей знаний, призванные лучше осознать специфику синестезии. Большое значение они имеют для изучения СМ, попытки рассмотрения которой как чисто языкового явления никогда не давали положительных результатов. Новые возможности в данном случае открывает корпореальная парадигма исследований, бурно развивающаяся в настоящее время. Однако многое остается на уровне гипотез, нуждающихся в дальнейшей разработке.