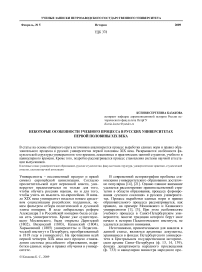Некоторые особенности учебного процесса в русских университетах первой половины XIX века
Автор: Казакова Ксения Сергеевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5 (98), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе обширного круга источников анализируется процесс выработки единых норм и правил образовательного процесса в русских университетах первой половины XIX века. Раскрываются особенности факультетской структуры университетов того времени, лекционных и практических занятий студентов, учебного и каникулярного времени. Кроме того, подробно рассматривается процесс становления системы научной аттестации выпускников.
Университетское образование, русское студенчество, факультетская структура, университетские практики, студенческий аттестат, система научной аттестации
Короткий адрес: https://sciup.org/14749539
IDR: 14749539 | УДК: 378
Текст научной статьи Некоторые особенности учебного процесса в русских университетах первой половины XIX века
Университеты – несомненный продукт и яркий символ европейской цивилизации. Согласно просветительской идее верховной власти, университет предназначался не только для того, чтобы обучать россиян наукам, но и для того, чтобы учить их мыслить по-европейски. В начале XIX века университет виделся новым средством социализации российских подданных, неким фильтром отбора политической и духовной элиты империи. В ходе либеральных реформ Александра I в Российской империи была создана сеть университетов. Кроме уже существующего Московского, были открыты Дерптский (1802), Виленский (1803), Казанский (1804), Харьковский (1805) университеты и Педагогический институт в Петербурге, преобразованный в 1819 году в университет. На протяжении всей первой четверти XIX века шел процесс становления системы российского образования, выработки единых норм и правил обучения в университете.
факультетская структура, университетские практики, студенческий
В современной историографии проблема становления университетского образования достаточно популярна [14], [21]. Однако главное внимание уделяется рассмотрению правительственной стратегии в области образования, процессу формирования «ученого сословия» в русских университетах. Процесс выработки единых норм и правил образовательного процесса рассматривается, как правило, на примере Московского и Казанского университетов [1], [3]. При этом особенностям учебного процесса в Санкт-Петербургском университете, многие традиции которого берут свое начало в истории Педагогического института, не уделяется должного внимания.
Источниками, привлеченными для анализа в данной статье, являются архивные документы, хранящиеся в фондах Петербургского университета в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (ф. 13, 14, 139), фондах департамента народного просвещения (ф. 733) и канцелярии министра народного про-
свещения (ф. 735) в РГИА. Материалы официального делопроизводства: университетские уставы, ведомственные распоряжения, принятые по Министерству народного просвещения, позволяют получить представление о системе связей и отношений внутри университетской корпорации, особенностях условий обучения в русских университетах первой половины XIX века. Источники личного происхождения, прежде всего мемуары универсантов, содержат разнообразные сведения об отношениях студенческой и профессорской корпораций на лекциях и экзаменах, в процессе практических занятий и научного руководства.
При устройстве ученой и учебной частей в университетах ориентировались, прежде всего, на современное состояние наук в Европе и распределение их в лучших европейских университетах. В части деления на факультеты российские университеты были ближе всего немецким. Традиционные университетские факультеты – философский, юридический и медицинский – в том или ином варианте были представлены в Харьковском, Казанском и Московском университетах. В окраинных университетах – Дерпт-ском, Виленском и Варшавском – имелись бого -словские факультеты. Особая структура отличала Педагогический институт в Петербурге, где были открыты три отделения: философско-юридическое, историко-словесное, физикоматематическое, что диктовалось не требованиями развития наук, а прагматическими потребностями подготовки учителей разных специальностей, причем предусматривалось включение в расписание каждого отделения как общих, так и специальных предметов. При учреждении Санкт-Петербургского университета в 1819 году была воспроизведена та же структура, с тем лишь различием, что отделения были преобразованы в факультеты.
С развитием научного знания, в 1836 году философский факультет Петербургского университета был отделен от юридического и существовал в виде двух отделений: историкофилологического и математического. Внутри первого отделения был выделен разряд восточной словесности, внутри второго – разряд естественных наук и разряд камеральных наук. Главное назначение камерального разряда, образованного в 1843 году, состояло в «приготовлении людей, способных к службе хозяйственной или административной» [6; 119]. Один из выпускников камерального разряда – сын профессора Петербургского университета Ф. Н. Устрялов – вспоминал, что разряд этот представлял собой чистейший винегрет, давая образование экцик-лопедическое, а окончивший курс находился точно в лесу, не зная, какую выбрать себе специальность [22; 581].
Юридический факультет всегда пользовался большей популярностью, чем все остальные. С конца 1830-х годов количество выпускников юридического факультета в три-четыре раза превосходило количество выпускников философского. «Видимо, что знания, необходимые для гражданской службы в обществе, находят более одобрения, нежели знания, сопряженные преимущественно со службой ученой», – произнес профессор П. А. Плетнев в приветственной речи на торжественном акте 25 марта 1840 года [8; 6].
Студентам каждого факультета преподавались науки, «служащие к общей и каждого пользе», и науки, «полезные для граждан разного состояния и нужные в разных родах службы» [18; 255]. Другими словами, предметы были разделены по их относительной важности на факультетские, или главные, общие и дополнительные. Принцип государственной пользы тех или иных наук, таким образом, был руководящим и говорил о «полезности» университета в целом как государственного учреждения. Впрочем, профессиональная специализация не понималась как исключительная задача. Для студентов той поры были характерны широта и энциклопедич-ность интересов, поэтому «словесники», например, нередко посещали лекции по естественным наукам. Принцип «универсума», единства мирового интеллектуального пространства, был соблюден и выражался в том, что преподавание основных предметов – древних языков, логики и права – велось независимо от предполагаемой специализации слушателя. Этим александровский университет принципиально отличался от николаевского, в котором, согласно уставу 1835 года, медицинская или юридическая специализация оказалась несовместима с чтением общегуманитарных курсов. Предметами, обязательными для студентов всех факультетов, были оставлены лишь богословие (для студентов православного вероисповедания), российская словесность и латынь. По университетскому уставу 1835 года, было положено читать эти предметы в течение первых двух курсов. Из числа «новых» иностранных языков для студентов разряда общей словесности обязательным для изучения был один язык по выбору, для разряда восточной словесности – французский и английский, а для юридического факультета – немецкий [11; 10]. Кроме того, согласно уставу 1835 года, вводилось обучение всех казеннокоштных студентов рисованию, танцам и музыке. В годовом отчете ректора Петербургского университета за 1847 год было сказано, что «университет, не упуская из виду эстетического развития души молодых людей, которое часто решит судьбу целой жизни, употребляет к тому все способы, а уроки рисования, танцования и музыки идут параллельно с прочими» [9; 49].
В уставе 1804 года четко не оговаривалось время обучения в университете. Первый год обучения представлял своего рода вводный или «приготовительный» курс, призванный, по словам профессора Московского университета Ф. И. Буслаева, уравнять знания поступивших в университет прямо из дома или из разных учебных заведений, казенных и частных, и подготовить их к специальным занятиям на своих факультетах [2; 217]. Здесь преподавались науки, которым «необходимо должны учиться все желающие быть полезными себе и Отечеству, какой бы род жизни и какую службу ни избрали» [18; 286]. В «приготовительный» курс были включены предметы гимназического курса: языки российский и латинский, арифметика и геометрия, физика и философия, история и право. Курс наук в Главном педагогическом институте, согласно с его уставом 1816 года, составлял шесть лет и также делился на три степени: на «предварительный» в течение двух лет, на курс «высших наук», или специальный, в течение трех лет и на «заключительный» в течение одного года, посвящавшийся изучению педагогики [6; 4]. По уставу 1835 года, полный курс обучения составлял 5 лет на медицинском и 4 года на остальных факультетах. С развитием научного знания и дифференциацией наук первый курс обучения в университете потерял значение «приготовительного», однако на протяжении этого года студентам преподавались, как правило, общие предметы, такие как богословие и церковная история, всеобщая история, логика, а из языков – российская словесность и латынь. Преподавание в университете делилось на полугодичные курсы. В начале каждого курса всем учащимся выдавался табель на право слушания лекций, в котором по факультетам были выставлены университетские предметы с именами профессоров.
В первой четверти XIX века в университетской практике не существовало понятия академического учебного года. Так, например, в 1819 году, по неоднократному представлению попечителя, Конференция Петербургского университета должна была определить, «с какого времени считать учебный год в нынешнем окончательном курсе». В собраниях 14 апреля и 5 мая Конференция рассудила, что поскольку в прежних представлениях по Педагогическому институту было определено считать его с 1 августа (1817), а в другом – с 1 января (1818), то и на 1819 год было решено началом года считать 1 января. Таким образом, учебный год считался с января, а летние вакации (каникулы) приходились на середину года. Считать учебный год с августа по июнь разрешено было, по ходатайству Совета университета, лишь в 1831 году, вследствие чего этот учебный год продолжался 18 месяцев, до июля 1832 года [6; 102]. По университетскому уставу 1835 года, академический год начинался с 22 июля, а летние вакации, начинавшиеся с 10 июня, соответственно, обозначали его окончание. Зимние вакации продолжались с 20 декабря по 12 января. В 1857 году Совет Харьковского университета направил в Министерство народного просвещения предложение о продлении летних каникул и отмене зимних. Необходи- мость такой меры объяснялась тем, что в Харькове в течение июля и августа обыкновенно бывает жаркая погода, «приводящая в расслабление» силы не только студентов, но и преподавателей. Кроме того, в докладе Совета сообщалось, что многие молодые люди имели обыкновение просить о продлении отпуска с тем, чтобы вернуться в Харьков вместе с родственниками, приезжающими к середине августа на Успенскую ярмарку. Совет университета доносил, что в течение одного месяца и 10 дней, назначенных на летние вакации, невозможно успеть сделать ежегодные ремонтные работы. Летние вакации в Харьковском университете предлагалось ввести с 10 июня по 16 августа, то есть продлить на 23 дня за счет зимних каникул, которые предполагалось вовсе отменить. После рассмотрения этого предложения в Министерстве народного просвещения оно с положительным решением было направлено в Главное правление училищ. Однако там было решено, что отменить зимние вакации не представляется возможным по причине их совпадения с праздниками [Рождества и Нового года. – К. К.], в которые преподавание должно быть прекращено. Что же касается летних вакаций, то было признано, что и в других учебных округах университетское начальство всегда имеет затруднения с началом обучения в установленный уставом срок, то есть 22 июля. Поэтому Главное правление училищ определило, оставив зимние каникулы в определенном уставом размере, продлить летние до 1 августа, распространив эту меру на все университеты [16; 15]. По уставу 1863 года, начало учебного года было перенесено на 15, а уставом 1884 года – на 20 августа. Кроме того, были установлены особые табельные дни, в которые не было лекций, но была, как правило, церковная служба, которую обязаны были посещать казеннокоштные студенты.
Лекционный метод преподавания был главным в учебном процессе на всех факультетах, так как печатных руководств и учебников практически не было. Студенты готовились к экзаменам главным образом по записям, сделанным на лекциях. В конце 1840-х годов некоторые профессора стали издавать литографированные лекции, но их общее число было невелико. В Петербургском университете лекции, по два часа каждая, делились на утренние, с 8 до 12, и вечерние, с 14 до 18 часов. Тем не менее, по свидетельству мемуаристов, редко кто из профессоров начинал с 8 утра. Большинство лекций читалось с 9 часов, точно так же лишь немногие профессора проводили послеобеденные занятия с 14 часов, а наиболее популярными были часы с 5–6 вечера. «Счастливые студенты настоящего времени, – писал В. В. Григорьев, – и представить себе не могут, как тягостны были эти послеобеденные лекции... Ну да и позевали же мы на них» [7; 37]. Не менее трудными были утренние лекции, особенно зимой при сальных све- чах. Поэтому своекоштные студенты, вынужденные два раза в день проделывать путь от дома до университета, пропускали либо утренние, либо вечерние лекции. «Некоторые преподаватели, – доносил директор университета в начале 1822 года, – не находя в положенное время слушателей в аудиториях, закрывали классы и объявляли о том конференции» [6; 102]. По уставу 1835 года, продолжительность лекции была ограничена 1,5 часа. В Петербургском университете с 1837/38 учебного года лекции продолжались с 9 часов утра до 3 пополудни. С началом Крымской войны и введением в 1855 году преподавания военных наук и строевого устава в Петербургском университете лекции были сокращены до одного часа, однако уже в 1856-м прежний порядок был восстановлен.
Что касается практических занятий, то они не были обязательными. В университетском уставе 1804 года лишь высказывалось пожелание, чтобы профессора наук, особенно словесных, философских и юридических, учредили со студентами беседы о научных предметах, в которых «исправляли бы суждение их и самый образ выражения, приучали бы их основательно и свободно изъяснять свои мысли» [18; 288]. Практические занятия признавались необходимыми лишь на медицинских факультетах. Обычно молодые люди выбирали себе одного-двух преподавателей, которые руководили их практическими занятиями и исследованиями. Некоторые профессора устраивали нечто вроде семинарских занятий у себя на дому. У студентов, приглашенных к преподавателю, появлялась возможность не только ближе узнать преподавателя, но главное – совместно, творчески работать над научной проблемой. В 1843 году студенты исторического факультета Петербургского университета получили от университетского начальства официальное разрешение заниматься педагогическими руководствами у профессора М. С. Куторги на его квартире [23].
Предусматривались различные виды поощрения успевающих студентов: медали за конкурсные сочинения, казенные или частные (благотворительные) стипендии, которые присуждались по конкурсу. Практика написания сочинений была одной из важных особенностей университетского образования, рассчитанной на выработку у студентов первичных навыков самостоятельного научного мышления. Темы этих работ, представляемые кем-либо из профессоров университета, ежегодно утверждались на факультетских собраниях, а затем на Совете университета; выполненные студентами работы также рассматривались Советом университета, что свидетельствовало о том, насколько большое значение придавалось этому виду обучения. Темы различными факультетами предлагались поочередно и публиковались в «Объявлениях о публичных учениях» на текущий академический год. Процедура присуждения медалей четко оговаривалась. Конкурсные сочинения вместе с именами авторов, запечатанными в особых конвертах с девизами, отсылались декану факультета. Затем профессора факультета, не вскрывая конвертов с именами, присуждали медали и сообщали свое решение в университетский Совет, на заседании которого объявлялись имена награждаемых. Золотые, серебряные медали и похвальные отзывы раздавались через год после объявления тем на торжественных публичных актах университета.
Во всех русских университетах обязательными признавались годичные испытания, то есть экзамены по окончании каждого курса, и выпускные, на которых, по выражению самих студентов, следовало дать отчет о своих познаниях. В это время различные праздники и попойки совершенно прекращались. «Все, кончающее курс, зашевелилось, призадумались и те, которые редко о своей цели думали. Сходились, читали, повторяли, спорили, вздыхали...» – вспоминал студент Московского университета Н. Н. Мурзакевич об экзаменационной поре [13; 96]. В Санкт-Петербургском университете существовали также и полугодовые экзамены, введенные скорее как дисциплинарная мера, нежели как форма контроля знаний студентов. Переводные экзамены были частными, то есть закрытыми, а выпускные – публичными, на них могли присутствовать попечитель, ректор, архиепископ, инспектор, профессора и приглашенные персоны. Тем не менее, как отмечали многие мемуаристы, экзамен редко посещали посторонние лица, только на экзамене по церковнобиблейской истории и богословию присутствовал местный архиерей и несколько духовных лиц. По выражению студента Казанского университета Н. И. Мамаева, обыкновенно экзамены производились «келейно». «Было то же “спрашивание”, что и на лекциях, – вспоминал он, – только в другой обстановке: в актовом зале, в присутствии попечителя и профессоров. Попечитель вызывал студентов по списку, выслушивал ответы и ставил баллы» [12; 52].
На протяжении всей первой половины XIX века происходила выработка единой системы оценок. Как правило, на вступительных и годовых экзаменах использовались отметки от 0 до 5, что в словесном выражении означало совершенное незнание, слабые, посредственные, достаточные, хорошие и отличные сведения. На выпускных экзаменах полный балл составляла отметка 4, причем допускались и половинные дроби. Лишь перед началом 1836/37 академического года Совет Петербургского университета составил предварительные правила для единообразного исчисления баллов, которые и были утверждены попечителем. Для приведения в единообразие счисления баллов выпускного экзамена с приемным для оценки студентов при годовых и выпускных экзаменах были введены отметки от 0 до 5. По ним при выведении среднего экзаменационного балла дробь более
½ принималась за единицу, а менее – отбрасывалась. Несмотря на общую шкалу оценок, у каждого профессора был свой высший и низший балл. Так, например, выдающийся профессор К. Д. Кавелин, принимая экзамен, начинал просто, по-товарищески беседовать со студентом по тому или иному вопросу гражданского права, и только убедившись в степени действительных знаний учащегося, ставил балл по строгой и нелицеприятной оценке [20; 626]. Другой знаменитый ученый Т. Н. Грановский, преподававший в Московском университете, никому не ставил меньше 4. «Очень Вам благодарен», – прибавлял он, ставя свою обычную 4 или 5 [5; 959].
С принятием нового университетского устава 1835 года были введены и новые правила для руководства в испытаниях студентов. Так, в «Правилах испытания для перевода и выпуска студентов Императорского С.-Петербургского университета», изданных в 1840 году, определялась как сама процедура проведения экзамена, так и шкала баллов, необходимых для перевода на следующий курс или для получения ученых степеней при выпуске из университета. Звание «студента» определяло временный статус обучающегося, однако окончание курса наук и превращение в «действительного студента» имело некую неразменную ценность: согласно российской системе научной аттестации, это была первая ученая степень, за которой следовала традиционная комбинация: «кандидат» – «магистр» – «доктор».
Годичные испытания продолжались в течение мая – до 10 июня по всем факультетам одновременно в 3 испытательных комиссиях под председательством деканов и под общим наблюдением ректора. Для студентов, отсутствовавших на годичном экзамене по причине болезни, испытание проводилось перед началом нового академического года. Для более точного определения степени успехов студентов во время годичных испытаний на них кроме декана факультета и экзаменатора должны были присутствовать два профессора из того же или другого факультета, также обязательным было присутствие секретаря. Перед началом экзамена профессор представлял декану программу пройденных в течение курса вопросов и билеты с теми же вопросами из программы, под той же нумерацией. Декан, перемешав билеты, клал их на стол «закрытыми» и вызывал студентов по списку. Молодой человек, взяв билет, читал вслух вопрос и спустя несколько минут, необходимых «для соображения», начинал отвечать на каждый вопрос программы в виде «подробного рассуждения или разбора». Если студент затруднялся ответить или отвечал слабо, то экзаменатор предлагал ему взять еще один или два билета и «по соображениям из всех ответов ставил средний балл, отмечая это обстоятельство в списке» [19; 462]. Все присутствующие члены испытательной комиссии имели право задавать студенту вопросы, не выходящие за рамки программы. «Испытание студента оканчивается по общему согласию всех членов комитета, когда каждый вывел свое окончательное решение», – говорилось в § 9 Правил [19; 463]. После окончания экзамена студенты удалялись из экзаменационной аудитории, и профессор, преподающий предмет, после совещания с другими членами комитета ставил отметки. Правилами предусматривалось, что в случае несогласия одного из членов комитета с профессором, дело передавалось на рассмотрение в особом заседании факультетского собрания.
«Правилами для испытания студентов Петербургского университета» предусматривалась шкала баллов, которые необходимо было получить студенту на экзаменах для успешного продолжения обучения или выпуска из университета. Так, студент, получивший на экзамене менее 3 баллов в среднем выводе, лишался права на перевод на следующий курс. Права на перевод лишались и те студенты, которые получили хотя бы в одном из предметов отметку 0, и те, которые показали слабые знания по двум дополнительным предметам. Три балла, полученные на экзамене в одном из факультетских предметов, независимо от результатов других испытаний также были свидетельством провала на экзаменах. В первой четверти XIX века в русских университетах существовала практика, по которой неуспевающего студента оставляли на том же курсе еще на год. В 1849 году вышло распоряжение о запрещении всем вообще студентам оставаться на одном курсе два года. Оно было скорее рекомендацией университетскому начальству, но оставляло за ним право ходатайствовать перед министром об оставлении неуспевающего студента в силу «особых законных в том уважений» [19; 462]. В этом году в Петербургском университете за «неуспехи» был отчислен один казеннокоштный и девять своекоштных студентов, в 1850 году – лишь один своекоштный, а в 1852 году число неуспевающих студентов составило 8 человек, один из которых был пансионером, а семь – своекоштными [17; 28].
Что касается требований к выпускникам, то в 40-е годы XIX века они стали более высокими по сравнению с предыдущими десятилетиями. Если ранее для присуждения степени действительного студента требовалось получить на выпускных экзаменах не менее 2 баллов по каждому из предметов, а для кандидата – не менее 3½ балла, то с 1836 года звание действительного студента мог получить выпускник, имеющий в среднем выводе не менее 3 баллов. Степени кандидата удостаивались только отличнейшие из студентов, которые в среднем выводе за все четыре года получили отметку 5. Если при общем результате в 5 баллов выпускник за время обучения показал в нескольких предметах «слабые» или «посредственные» знания, то он мог лишиться права на получение степени кандидата. Тем не менее, чтобы «не отнять надежды на получение степени кан- дидата и побудить к усердным занятиям», по разрешению факультета предусматривалась переэкзаменовка не более чем в трех предметах низших курсов, во время которой претендент на степень кандидата должен был показать отличные сведения. Переэкзаменовка разрешалась по представлению ректора и не иначе как с разрешения попечителя. Студенту, претендующему на получение степени кандидата, необходимо было не позднее 15 февраля представить декану факультета сочинение по какому-либо вопросу факультета, выбранному самостоятельно или предложенному профессором. Сочинение вместе с мнением о его достоинстве рассматривалось в собрании факультета, после чего решался вопрос о присуждении кандидатской степени. На решение университетского начальства о присуждении ученой степени и назначении выпускника огромное влияние оказывала характеристика инспектора, с которой при решении дела знакомились и ректор, и попечитель, и министр народного просвещения. В первой четверти XIX века, когда только происходила выработка стиля университетского законодательства, в рапортах профессоров встречаются довольно разнообразные характеристики: «вспыльчив», «ветрен», «ропотлив и неуступчив» [26; 8]. К 30-м годам XIX века инспекторы пользовались устойчивыми словосочетаниями, характеризующими поведение студента как «довольно хорошее» или «дурное». В 1844 году Министерством народного просвещения были введены некоторые уточнения счета баллов как переводных, так и выпускных экзаменов. Согласно этим уточнениям, средний балл высчитывался отдельно из предметов дополнительных и факультетских. Если из дополнительных предметов выпускник мог получить не менее 3, то по факультетским предметам – не менее 4½. Кроме того, по предмету богословия, общему для всех факультетов, кандидат не мог иметь менее 4, а действительный студент – 3 баллов [4; 48]. Естественно, что выполнение подобных требований было затруднительно в первой трети XIX века, когда «многие студенты и кандидаты выходили из университета с весьма малым запасом сведений и еще с меньшей любовью к науке» [6; 104]. В годовом отчете за 1848 год ректор университета доносил, что после годичных испытаний 107 студентов 62 получили степень кандидата, а 45 человек – звание действительного студента. «Эта пропорция, по сравнению с той, которая выходила в прежние годы, ясно свидетельствует, что после нового порядка экзаменов, приобретение ученой степени кандидата сделалось затруднительнее, от чего и сама степень приобрела высшее значение в глазах каждого судии», – писал ректор в отчете [10; 34].
Тем не менее время от времени встречались злоупотребления и нарушения четких правил присуждения ученых степеней. Один из мемуаристов, обучавшийся в Харьковском университете в 40-е годы XIX века, описывал практиковавшийся там обычай, по которому достаточные сту- денты, желающие получить степень кандидата, перед выпускными экзаменами брали несколько уроков у профессоров с приличным за них вознаграждением. К таким принадлежал и сам мемуарист, поэтому накануне экзаменов ему был сделан намек о необходимости дополнительных занятий. Молодой человек, однако, пренебрег советом и закончил курс действительным студентом. Подобная практика существовала еще в начале XIX века в Московском университете. Н. Н. Мур-закевич вспоминал, что среди студентов Московского университета были те, кто брал частные уроки у профессоров Сандунова и Цветаева, и, по общему мнению, это означало, что они будут кандидатами [13; 96]. Отступление от норм профессиональной этики допускалось и некоторыми членами профессорской корпорации Петербургского университета. Тем не менее, как пишет историограф Петербургского университета В. В. Григорьев, не в употреблении было брать частные уроки у профессоров, а если это и случалось крайне редко, то на богатых студентов, прибегавших к такому способу «успевать в науках», остальные товарищи смотрели с большим нерасположением [6; 103].
Подобные злоупотребления редко обнаруживались Министерством народного просвещения, как правило, они не находили широкой огласки, не выходя за пределы того или иного учебного заведения. Пожалуй, лишь однажды, в 1819 году, в Казанском университете, по представлению попечителя округа М. Л. Магницкого, результаты выпускных экзаменов были признаны недействительными. Экзамен, как говорилось в донесении, был произведен без «надлежащей по предписанным правилам строгости и осмотрительности» [25; 2]. После повторного экзамена звания кандидата лишились 5 человек, а звания действительного студента – двое из выпускников. Кроме того, 15 своекоштных студентов, получивших аттестат до получения предписания попечителя о переэкзаменовке, в течение 1820 года в Казань не явились, что было расценено как признак неспособности выдержать новый экзамен, вследствие чего их свидетельства были признаны недействительными [15; 22].
Основным документом, подтверждающим право на чин после окончания университета, был аттестат. В первой четверти XIX века происходила выработка единой для всех русских университетов формы аттестата. Еще в начале XIX века студентам Петербургского педагогического института выдавались аттестаты как Конференцией, так и отдельными профессорами. В апреле 1813 года, по утвержденному проекту правил для Комитета испытаний Педагогического института в Петербурге, составленному С. С. Уваровым, подобная практика была приостановлена. Отныне ни один профессор не мог «выдавать частного аттестата»; документ об окончании института мог быть выдан только за подписью директора и профессоров [19; 121].
В первой четверти XIX века аттестаты выдавались и окончившим курс студентам, и молодым людям, проучившимся в университете лишь некоторое время. Пытаясь отрегулировать сложившуюся практику, когда молодые люди поступали в университеты лишь на непродолжительное время для получения аттестата, Министерство народного просвещения в 1814 году издало распоряжение, по которому студентам, не окончившим курса учения, выдавались аттестаты с указанием времени обучения. В аттестатах непременной составляющей было указание на поведение студента во время обучения в университете. По распоряжению министерства, в аттестатах, однако, «не следовало означать частных случаев, встречавшихся во время продолжения учения, а только общий результат поведения выпускника, который должен был быть не менее “хорошего”». Таким образом, лишь к концу первой четверти XIX века сложилась форма университетского аттестата, который студент получал по окончании университета в торжественном собрании. В аттестате, подписанном членами университетского Правления с приложением печати, значилось время обучения в университете, свидетельства профессоров об успехах выпускника в преподаваемых предметах, а также свидетельство ректора о поведении. Обязательным было указание на то, что студент выслушал полный курс и был экзаменован.
В университетской практике встречались случаи, когда по распоряжению Министерства народного просвещения в аттестаты вносились и дополнительные сведения. Например, так было в 1824 году, когда пятерым казеннокоштным студентам Петербургского университета за неимением подходящих учительских вакансий было разрешено поступать в службу по собственному их желанию. Выпускники, узнав о таком решении министерства, написали прошение о внесении в аттестаты дополнительных сведений о том, что они по окончании полного 6-летнего университетского курса призваны в звании старших учителей гимназии, которое соответствует 9-му классу государственных чиновников. «Без сего ясного и точного изложения наших прав мы подвергаемся явной опасности лишиться в другой службе принадлежащих нашему званию прав», – говорилось в прошении [28; 21]. Кроме того, студенты просили о внесении в аттестаты свидетельства о том, что они увольняются не за неимением в них надобности для учебных заведений, что легко может привести людей, не знающих о распоряжении университетского начальства в сомнение на счет их успехов и поведения, но по недостатку учительских мест, соответственных званию. Министр, рассмотрев просьбу студентов, предложил Правлению университета включить в аттестаты и свидетельства обстоятельства, значащиеся в прошении молодых людей. Кроме того, как и всем казеннокоштным студентам, данные аттестаты были выданы им без оплаты. Своекоштные студенты за получение аттестата должны были вносить в университетскую казну порядка 30 рублей. Если молодой человек имел перед университетом какие-либо обязательства, то аттестат выдавался ему только после их выполнения. Так, например, казеннокоштному студенту Петербургского университета Хорошилову, согласившемуся на назначение в Казанский учебный округ, были выданы деньги «во вспоможение и на прогоны». Однако молодой человек после получения этой суммы отказался от назначения. Министр распорядился не выдавать Хорошилову увольнительного аттестата до внесения денег обратно в казну [28; 21]. Чиновникам, экзаменовавшимся в университете, но не сдавшим все предметы, определенные указом 6 августа 1809 года, выдавался не аттестат по установленной форме, а свидетельство об успехах в сданных предметах. В Конференцию Санкт-Петербургского университета подавалось прошение о выдаче такого свидетельства с указанием причины, по которой проситель не имеет возможности окончить экзамен. Как правило, свидетельство выдавалось без всяких затруднений.
При поступлении на гражданскую службу выпускники университета, с успехом окончившие университетский курс и имеющие в подтверждение этому аттестат, утверждались в 12-м классе Табели о рангах, студенты, получившие степень кандидата, – в 10-м. Выпускники университетов пользовались также преимуществами при вступлении в военную службу. Согласно «Положению о производстве в ученые степени», утвержденному в 1819 году, Совет университета обязан был ежегодно подавать министру духовных дел и народного просвещения сведения о студентах, удостоенных степени «действительного студента» и «кандидата» [19; 447]. Кроме того, с 1838 года по инициативе министра народного просвещения С. С. Уварова императору подавались списки отличнейших выпускников русских университетов с тем, чтобы «оказываемо было некоторое снисхождение к их семейному положению и к дальнейшему назначению на поприще государственной службы» [18; 1420]. Прецедентом к подобному распоряжению стало ходатайство министра об определении ко второму отделению Собственной Его Императорского Величества Канцелярии князя Щербатова, с успехом закончившего Петербургский университет. Согласие на определение под свое руководство другого выпускника Петербургского университета, графа Шувалова, получил и М. М. Сперанский. Число студентов первых выпусков Петербургского университета было невелико, поскольку многие покидали его, не окончив курса. Лишь в 1831–1832 годах на всех факультетах число окончивших университет и получивших аттестат несколько возрастает. Так, в 1830 году философско-юридический факультет окончили 6 человек, физико-математический – столько же, историко-филологический – 13. В следующем, 1831, году выпускников философско-юридического факультета было 16, физикоматематического – 3, историко-филологического
– 11 [6; 83]. А уже в середине столетия число выпускников доходило до ста человек. С 1834 по 1853 год Санкт-Петербургский университет удостоил 43 своих выпускников ученых степеней магистра и доктора [4; 297].
Таким образом, к середине XIX века полностью сложилась система научной аттестации, единые условия образовательного процесса и вместе с тем выросла ценность университетского образования. Покидая стены alma mater, вчерашние студенты уносили с собой светлые воспоминания об университетских товарищах и профессорах, экзаменах и лекциях, о бессонных ночах над книгами и веселых пирушках, обо всем том, что затем найдет свое отражение в многочисленных мемуарах бывших универсантов.
Список литературы Некоторые особенности учебного процесса в русских университетах первой половины XIX века
- Андреев А.Ю. Московский университет в общественной и культурной жизни России начала XIX века. М.: Языки русской культуры, 2000. 312 с.
- Буслаев Ф.И. Мои воспоминания//Московский университет в воспоминаниях современников. М.: Современник, 1989. С. 200-222.
- Вишленкова Е.А., Малышева С.Ю., Сальникова А.А. Terra universitatis: Два века университетской культуры в Казани. Казань: Казан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова, 2005. 500 с.
- Воронов А.А. Историко-статистическое обозрение учебных заведений С.-Петербургского учебного округа. СПб., 1854. 294 с.
- Грановский Т.Н. На экзаменах//Русское обозрение. 1896. Т. 37. № 2. С. 958-959.
- Григорьев В.В. Императорский Санкт-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет существования. СПб., 1870. 156 с.
- Григорьев С.В. Т.Н. Грановский до его профессорства в Москве//Ленинградский университет в воспоминаниях современников. Т. I. Петербургский университет. 1819-1895/Под ред. В. В. Мавродина. Л.: Изд-во ЛГУ, 1963. С. 37-40.
- Годичный торжественный акт в Санкт-Петербургском университете, бывший 25 марта 1840 г. СПб., 1841. 268 с.
- Годичный торжественный акт в Санкт-Петербургском университете, бывший 8 февраля 1847 г. СПб., 1847. 300 с.
- Годичный торжественный акт в Санкт-Петербургском университете, бывший 8 февраля 1848 г. СПб., 1848. 259 с.
- Краткий отчет о состоянии Петербургского университета в течение первого 4-х-летия с 1836-1840 г. СПб., 1841. 112 с.
- Мамаев Н.И. Записки//Исторический вестник. 1897. Т. 83. № 5. C. 46-80.
- Мурзакевич Н.Н. В Московском университете, 1825 г.//Московский университет в воспоминаниях современников. М.: Современник, 1989. С. 89-96.
- Петров Ф.А. Российские университеты в первой половине XIX в.: формирование системы университетского образования. Кн. 1-4. М., 1998-2002.
- Российский государственный исторический архив (далее -РГИА) Ф. 733. Оп. 39. Д. 281. Дело о назначении вторичного экзамена студентам-выпускникам. 1819 г.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 50. Д. 990. Дело об отмене зимних каникул и продлении летних в Харьковском университете. 1857 г.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 25. Д. 199. Перечневая ведомость о студентах Санкт-Петербургского университета. 1849 г.
- Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 1. СПб., 1864.
- Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. Т. 2. СПб., 1866.
- Сорокин В.М. Воспоминания старого студента//Русская старина. 1888. Т. 60. № 12. С. 617-648.
- Университет для России. Т. II: Московский университет в александровскую эпоху/Ред. В. В Пономарева, Л. Б. Хорошилова. М.: Русское слово, 2001. 367 с.
- Устрялов Ф.Н. Воспоминания о С.-Петербургском университете в 1852-1856 гг.//Исторический вестник. 1884. Т. 16. № 7. С. 112-134.
- Центральный государственный исторический архив г. Санкт-Петербурга (далее -ЦГИА СПб.). Ф. 139. Оп. 1. Д. 4815. О дозволении студентам заниматься педагогическими руководствами у проф. Куторги. 1843 г.
- ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 5450. О невзносе некоторыми студентами денег за лекции. 1851 г.
- ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 71. О несоблюдении надлежащей строгости при испытании студентов. 1819 г.
- ЦГИА СПб. Ф. 13. Оп. 1. Д. 205. Отчеты и предложения смотрителей. 1807 г.
- ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 955. О распоряжениях по Комитету испытаний. 1813 г.
- ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 3392. О распределении студентов университета, остающихся без должностей. 1823 г.