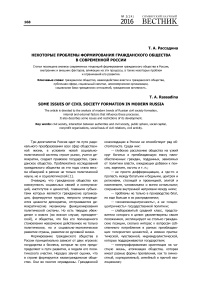Некоторые проблемы формирования гражданского общества в современной России
Автор: Рассадина Татьяна Анатольевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Социология и политология
Статья в выпуске: 2 (24), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу современных тенденций формирования гражданского общества в России, внутренних и внешних факторов, влияющих на эти процессы, а также некоторых проблем и ограничений его развития.
Гражданское общество, взаимодействие власти и гражданского общества, публичная сфера, социальный капитал, некоммерческие организации, социальная база гражданских отношений, гражданская активность
Короткий адрес: https://sciup.org/14114337
IDR: 14114337
Текст научной статьи Некоторые проблемы формирования гражданского общества в современной России
Три десятилетия Россия идет по пути радикального преобразования всех сфер общественной жизни, в условиях новой социальнополитической системы строит рынок, учится демократии, создает правовое государство, гражданское общество. Проблематика исследований гражданского общества за эти годы стала весьма обширной в рамках не только политической науки, но и социологической [1].
Очевидно, что гражданское общество как совокупность социальных связей и коммуникаций, институтов и ценностей, главными субъектами которых являются гражданские организации, формируется трудно, непросто утверждаются ценности демократии, отстраиваются демократические механизмы функционирования политической системы. Но есть твердое убеждение и власти (во всяком случае, президентской), и общества, что без его полноценного становления невозможно действенное не только политическое, но и социально-экономическое развитие страны, развитие ее духовной жизни.
Формирование гражданского общества в России принципиально зависит от двух игроков: государства и бизнеса, которые по сути предопределяют и пути развития, и модели его политического участия. Нередко звучат оценки, что в стране формируется квазигражданское общество. Они во многом оправданны. Гражданской консолидации в России не способствует ряд обстоятельств. Среди них:
-
— глубокое расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных граждан, подданных, зависимых от политики власти, ожидающих добавки к пенсии, зарплате, льготы и т. п.;
-
— не просто дифференциация, а где-то и пропасть между богатыми и бедными, центром и регионами, столицей и провинцией, элитой и населением, чиновниками и всеми остальными; сохранение внутренней неприязни между ними;
-
— проблемы не только в производстве благ, но еще больше в их распределении;
-
— «экономикоцентричность», а не «социо-центричность» государственной политики;
-
— слаборазвитый средний класс, представители которого в целом удовлетворены своим положением, эксплицируют не столько гражданские позиции, сколько интерес к вопросам собственного потребления в рамках преобладающих гиперсистем ценностей, а именно прагматической, чувственной, индивидуалистической, которые поддерживаются государством;
-
— гипертрофированная ориентация на частную жизнь, атомизация общества, которая имеет разные формы проявления, как то личностный, корпоративный, семейный и прочий изоляционизм;
-
— отсутствие честной конкуренции во всех сферах;
-
— культ не специалистов, а всевозможных менеджеров, в том числе в государственных, бюджетных организациях, бюрократов, что усиливает бессубъектность основной массы населения в плане влияния на принятие жизненно важных для общества решений;
-
— эффективность власти в том смысле, что она преследует собственные цели и интересы, зачастую отличные от целей и интересов общества; управление, контроль общества все-таки более важны для нее, чем его благополучие;
-
— значительная часть активности власти как в центре, так и в регионах направлена на имиджевые мероприятия, на спин-деятельность, спин-контроль, а не на решение актуальных задач общества;
-
— сложности борьбы с коррупцией; статистика предъявляет данные об уменьшении количества взяток за последний год, но не об увеличении их размера;
-
— дисфункциональность социальных институтов (к примеру, обращения граждан лично к Президенту в публичном пространстве — пресс-конференциях и прочих форматах — с просьбой помочь приобрести инвалидную коляску — очевидный признак этой ситуации; к тому же случай, имеющий множество аналогов);
-
— наличие множества ассоциаций граждан в России, которые трудно назвать влиятельными;
-
— публичная сфера в основном сформирована, но во многом она беспомощна.
В целом наблюдается снижение интереса общества к некоторым элементам демократии, имеющее разные причины, в частности: встраивание многих прав и свобод в повседневную жизнь; сохраняющаяся низкая гражданская и политическая культура; инертность, апатия общества, которая в недавнем времени была связана не только с относительно устойчивым стабильным развитием, с улучшением условий жизни, но и с неспособностью влиять на политическую жизнь общества. Сами российские граждане видят первопричину замедления движения России к демократии в выборе российского правящего класса, который предпочел демократии собственность и власть. Подобной позиции придерживаются две трети россиян. Существенно меньше тех, кто основную вину возлагает на само общество (27 %) [2].
Все это тормозит самоорганизацию гражданского общества.
Гражданское общество может строиться в русле двух парадигм: на его противопоставле- нии власти, критике ее; на поиске согласия, компромиссном улаживании проблем (так называемая конструктивная позиция). К тому же это строительство может идти снизу, что чаще квалифицируется как естественный процесс, а также сверху. Эти альтернативы порождают состояние бифуркации, которое может привести к разным, не всегда предсказуемым вариантам развития.
Одна из главных особенностей России заключается в том, что строительство демократических институтов и институтов гражданского общества в значительной мере ведется «сверху», что влечет зависимость от властей всех уровней, в связи с этим неэффективно влияние на власть. Так, создание важных, нужных институтов с участием власти (Общероссийский Народный Фронт, Общественная Палата РФ, региональные палаты, в том числе экологические, педагогические и др. (в Ульяновске есть Палата справедливости и народного контроля)) нередко порождает смешанные чувства, сложные отношения у населения.
Конструктивная модель взаимодействия власти и гражданского общества в современных условиях становится преобладающей. Первая модель (критическая) может способствовать разрушению государства изнутри, что в сегодняшних условиях смертельно опасно.
Но самоорганизация — это не только спонтанный процесс движения снизу, это резонансные действия как снизу, так и сверху на основе совпадения потребностей, интересов, целей. Отвергать и игнорировать целенаправленные действия сверху неверно, это важнейший элемент общества.
Несомненно, положительно то, что государство сознательно придает импульс созданию представительных институтов гражданского общества в условиях их отсутствия, предпринимает усилия по их развитию и совершенствованию. Но государство не только способствует развитию гражданского общества, но и периодически проявляет авторитарные способы управления им, например, использует тактику «закручивания гаек». Гражданское общество не является источником спонтанного порядка и гармонии, его развитие связано с преодолением собственных проблем. Государство не должно его поглотить, не должно слиться с ним, оно должно влиять на формирование культуры гражданственности. Этим институтам необходимо действовать в партнерстве, стимулируя и контролируя друг друга. Никакие условия не должны способствовать отказу от ценностей подлин- ного уважения, справедливости, честности. Критическая функция гражданского общества по отношению к государству должна оставаться.
Проблемы гражданского общества отражаются в сознании рефлексирующего российского социума, что проявляется в глубоком кризисе доверия в обществе как к институтам государства, так и к нарождающимся институтам гражданского общества. Многочисленные, в том числе и опубликованные результаты наших исследований, указывали на это [3].
Резкий скачок доверия высшей власти страны (Президенту прежде всего) за последний год с очевидностью выполняет защитную объединительную функцию в условиях сложной внешнеполитической ситуации при непростом отношении людей к внутриполитическим проблемам, крайне негативном, к таким как обюрокрачивание, коррупция, рост цен, сокращение рабочих мест, уменьшение зарплат, повышение тарифов на услуги ЖКХ, появление новых статей оплаты и прочие.
Здоровое гражданское общество невозможно без «коммуникативной рациональности или публичности» [4, с. 32] как сферы интеракции и коммуникации субъектов, автономных и свободно самоопределяющихся индивидов и негосударственных союзов, формирующихся на добровольных началах. Именно в публичной сфере социума складываются мнения, идеалы, ориентации, которые выступают основой общественной солидарности. Ведущими мотивами таких отношений являются стремления субъектов добиться равенства, открытости, уважения и доверия, а также на этой идейной основе включиться в решение жизненно важных проблем.
В этом контексте повышается целесообразность использования субъектами гражданского общества такого ресурса, как социальный капитал.
Феномен социального капитала как умения налаживать социальные отношения (Хани-фан Л. Д., 1916), совокупности актуальных или потенциальных ресурсов, которые используются участниками отношений взаимного знакомства и признания [5], уже несколько десятилетий приковывает внимание исследователей.
Патнэм Р. утверждает, что «социальный капитал начинается от инициатив индивида и поднимается вверх — до государства, а не наоборот» [6, с. 49]. Принадлежность к определенной группе содержит в себе тот или иной аспект социальной структуры, «усиливает определенные действия людей, находящихся в этой структуре» [7, с. 126], а ее нормы взаимодейст- вия и доверия определяют качество и количество социальных взаимоотношений.
Такие сетевые отношения позволяют формировать и поддерживать социальную ткань, ее клеевую основу. Социальный капитал выполняет обязывающие, связывающие, объединяющие, позитивные и негативные функции. Главное — он уменьшает издержки на координацию совместной деятельности, заменяет формальные правила и бюрократические процедуры неформальными нормами, отношениями доверия, усвоенными профессиональными стандартами, этикой общения. Его объём зависит прежде всего от размера социальных сетей, которые он может эффективно мобилизовать. Это — условие расширения социальной базы гражданского общества.
Социальный капитал не является естественной данностью, сконструированной раз и навсегда. Он формируется и постоянно воспроизводится через сети связей, которые являются продуктом постоянной работы, конвертируется в другие виды капиталов. Высок в тех организациях, где люди доверяют друг другу, находятся в тесной зависимости взаимных обязательств. Формируется на разных уровнях социальной реальности (на микроуровне — взаимодействие индивидов; на мезоуровне — отношения организаций; на макроуровне — взаимодействия общностей, групп, институтов). Ф. Фукуяма приравнивает доверие к социальному капиталу [9], основываясь на положении, что доверие и социальный капитал взаимно укрепляют друг друга. Доверие значительно увеличивает возможности взаимодействия людей, усиливает кооперацию. Одновременно способствует развитию личностных самодетерминант, возможности свободно проявлять собственные позиции, автономии общества в условиях поддержки надежными людьми и социальными институтами. Автономия — важный элемент гражданского общества. Автономия социальных субъектов означает признание прав и свобод человека и гражданина в различных сферах, возможность самоорганизации.
Одним из факторов обновления и развития гражданского общества является использование некоммерческих организаций (НКО). Однако в деятельности НКО России масса своих проблем: это их локализация преимущественно в крупных городах; закрытость большинства добровольных объединений; несформированность потребности в коммуникациях и объединении, что задает тенденциозность в конструировании социальных проблем, не позволяет эффективно влиять на принятие решений и др.
Среди преобладающих в России способов лоббирования интересов населения чаще используются негласные, чем легальные и публичные (личные связи с представителями органов власти; договоренности с лицами, от которых зависит принятие нужных решений). Средства массовой информации мало интересуются жизнью гражданских организаций , их больше интересуют бизнес и власть, обладающие ресурсами, к тому же не так много независимых и неподконтрольных власти СМИ в России. Сами руководители НКО больше озабочены материальными ресурсами, нежели результатами работы; зачастую работа в НКО рассматривается как вариант трудоустройства, заработка. Наконец, критериями оценки своей работы руководители НКО чаще считают рост членства и поддержку со стороны власти, чем привлечение инициативных граждан и поддержку населением.
В итоге НКО не транслируют «наверх» информацию о потребностях населения, не контролируют действия органов власти, не влияют на распределение ресурсов, не участвуют в формировании приоритетов государственной политики или делают все это крайне слабо.
Правозащитные организации часто получают средства из иностранных источников и проповедуют идеи, ценности, достаточно привлекательны, — в русле гуманистических идеалов. Нередко за этим привлекательным фасадом — деструктивные для нашей страны намерения, не считывать их наивно. Важно и то, чтобы за этими проблемами не выплеснуть в очередной раз подлинные ростки гражданских позиций. Повторим, в практиках создания гражданского общества в нашей стране очевидно существенное движение сверху.
Социальный капитал — это не просто связи. Это структуры господства, создаваемые людьми свободно, но вполне рационально, которые позволяют их владельцам реализовывать определенные жизненные шансы, достигать целей. Нередко это серьезная компенсация проблем и недостатков социальных акторов (финансовых, материальных, профессиональных и т. п.), способ значительного и не всегда заслуженного повышения статусных позиций. Он может стать фактором усиления и без того критического социального неравенства.
Главным показателем качества «формального» социального капитала является не количество организаций, а вовлеченность населения в их работу, социальная база. В странах с развитым гражданским обществом подобная доля населения составляет 10—15 %. Характерной чертой Российской Федерации, как и всего постсоветского пространства, является разрыв номинального и реального членства в некоммерческих организациях. Членами организаций являются 3—5 % [9, с. 32]. Последние исследования социологов из НИУ ВШЭ демонстрируют, что социальная база гражданских отношений неоднородна [10, с. 30], ее основу образуют порядка 10 % взрослых граждан России.
Средний россиянин предпочитает невысокую социально-политическую активность. Это объективный уровень самоорганизации. Такое состояние характеризуют как проявление «не-гражданственности». Оно, скорее, является защитным механизмом в условиях уязвимости человека, зависимости от политики центральной и местной властей и ухудшающихся условий жизни. «Негражданственность» важно отличать от «антигражданского» поведения. Последнее характеризуется активным проявлением цинизма и сознательным агрессивным поведением, игнорированием гражданских ценностей.
Оценивать уровень активности непросто. Так, чрезмерно политизированное общество (например, конца 80-х — начала 90-х годов прошлого века), когда практически все мысли, разговоры людей были о политике, — вряд ли можно квалифицировать как здоровое общество. Есть небезосновательная точка зрения, что гражданское общество в нашей стране в наиболее сформированном виде было в советский период. Всевозможные собрания, коллективные обсуждения, критика (без нее, особенно в перестройку, выступления вообще не воспринимались, а часто и не принимались), выборы «снизу доверху» и пр. были реальными социальными фактами. Общественно-политическая деятельность в советское время называлась общественной работой. В основе своей — это бесплатная работа. Отношение к ней было разное. От великого блага — работа не за деньги во имя целей общества, групп, отдельных граждан вплоть до отношений, которые определялись формулой «если хочешь завалить дело, сделай его общественной работой». Эта работа требует немалого времени, сил. Нельзя не признать нормальным и то, что у людей есть и должны быть другие интересы, разные интересы.
С учетом массы разнообразных проблем в современной России уровень гражданской активности явно недостаточен. В сочетании с неразвитостью НКО невысокая социально-политическая активность слабо способствует развитию институтов гражданского общества.
Политические события последних лет показали, сколь неустойчивым остается процесс де- мократизации и сколь опасно велика в нем роль отдельной личности. Считаю не лишним вспомнить о том, что в России общинное самоуправление имеет давнюю серьезную и своеобразную традицию. Гражданское общество не может быть привнесено и навязано извне на основе западных моделей, которые также имеют свои проблемы развития. Оно должно формироваться с учетом российской традиционной культуры и эволюционировать. Для формирования новой гражданской ментальности нужны годы, работа поколений.
-
1. Бляхман Б. Я. Гражданское общество: теоретическая конструкция или практическая реальность?.. // Вестн. МГУ. Сер. 18. Социальная политика и социология. 2005. № 4. С. 32—49; Василенко Л. А., Вронская М. И. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества. М. : Проспект, 2010. 294 с.; Гаджиев К. С. Гражданское общество. Мировой опыт и проблемы России. М. : Знак, 2008. 115 c.; Галкина Е. В. Институционализация гражданского общества в контексте современных политических трансформаций. Ставрополь : СГУ, 2010. 170 с.; Голенкова З. Т. Гражданское общество в России // Социс. 1997. № 3. С. 25—36; Горшков М. К. Гражданское общество и гражданская культура в современной России: опыт социологической диагностики. Вместо предисловия // Россия реформирующаяся. Вып. 11: Ежегодник / отв. ред. М. К. Горшков. М. : Новый хронограф, 2012. С. 3—26; Ирхин Ю. В. Гражданское общество и власть: проблемы взаимодействия и контроля в современной России // Социально-гуманитарные знания. 2007. № 5. С. 3—24; Круглый стол QUOVADIS. Перспективы становления гражданского общества в России. Ч. 1 // Полис. 2012. № 2. С. 117—140; Лопарев А. В. Национальные особенности взаимоотношения государства и гражданского общества в России (историкополитический аспект) // Власть. 2009. № 6. С. 128—132; Максимова С. Г. Социальная активность населения и общественные гражданские инициативы // Политика и общество. 2012. № 7. С. 44—49; Мерсиянова И. В. Социальное участие и проблема доверия в гражданском обществе // Социальный капитал, социальные сети, соци-
альное участие: к проблеме возрождения местных сообществ в России. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. С. 6—25; Мотрошилова Н. В. О современном понятии гражданского общества // Вопр. философии. 2009. № 5. С. 57—62; Сунгу-ров А. Ю. Взаимодействие власти и структур гражданского общества: возможные модели // Гражданский диалог. 2008. № 3. С. 37—40; Тамбовцев В. Л. Государство как инициатор развития гражданского общества // Общественные науки и современность. 2007. № 2. C. 99—106; Якимец В. И. Третий сектор: состояние, проблемы роста и развития, место и роль в общественной жизни России // Школа культурной политики. 2007. № 5. С. 35—39 и др.
-
2. Горшков М. К. Гражданское общество и демократия участия в пореформенной России: Выступление на III съезде некоммерческих организаций России. URL: http://www.youtube.com/ watch?v=WggDrM4-mj0. Загл. с экрана.
-
3. Рассадина Т. А., Миронова Н. А. Доверие власти в условиях «общества риска» (на примере российских провинциальных городов) // Власть. 2011. № 7. С. 105—108; Рассадина Т. А. Доверие к средствам массовой информации в условиях «общества риска» (на примере российских провинциальных городов) // Изв. высш. учеб. заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2012. № 1. С. 61—70.
-
4. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М. : ACADEMIA, 1995. 87 с.
-
5. Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3, № 5. С. 60—74.
-
6. Putnam R. D. Bowling Alone. The collapse and revival of American community. N. Y. : Simon and Shuster, 2000. 312 p.
-
7. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. 2001. № 3. С. 121—139.
-
8. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М. : АСТ Хранитель, 2006. 730 с.
-
9. Романенко Л. М. Гражданское общество в России. М., 2005. 205 с.
-
10. Воспитание гражданских добродетелей: как изменилось общество России за 10 лет? // Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Бюл. I. 2015. № 1(5), март. 61 с.
Список литературы Некоторые проблемы формирования гражданского общества в современной России
- Бляхман Б. Я. Гражданское общество: теоретическая конструкция или практическая реальность?.//Вестн. МГУ. Сер. 18. Социальная политика и социология. 2005. № 4. С. 32-49;
- Василенко Л. А, Вронская М. И. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества. М.: Проспект, 2010. 294 с.;
- Гаджиев К. С. Гражданское общество. Мировой опыт и проблемы России. М.: Знак, 2008. 115 c.;
- Галкина Е. В. Институционализация гражданского общества в контексте современных политических трансформаций. Ставрополь: СГУ, 2010. 170 с.;
- Голенкова З. Т Гражданское общество в России//Социс. 1997. № 3. С. 25-36;
- Горшков М. К. Гражданское общество и гражданская культура в современной России: опыт социологической диагностики. Вместо предисловия//Россия реформирующаяся. Вып. 11: Ежегодник/отв. ред. М. К. Горшков. М.: Новый хронограф, 2012. С. 3-26;
- Ирхин Ю. В. Гражданское общество и власть: проблемы взаимодействия и контроля в современной России//Социально-гуманитарные знания. 2007. № 5. С. 3-24;
- Круглый стол QUO VADIS. Перспективы становления гражданского общества в России. Ч. 1//Полис. 2012. № 2. С. 117-140;
- Лопарев А. В. Национальные особенности взаимоотношения государства и гражданского общества в России (историкополитический аспект)//Власть. 2009. № 6. С. 128-132;
- Максимова С. Г Социальная активность населения и общественные гражданские инициативы//Политика и общество. 2012. № 7. С. 44-49;
- Мерсиянова И. В. Социальное участие и проблема доверия в гражданском обществе//Социальный капитал, социальные сети, социальное участие: к проблеме возрождения местных сообществ в России. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. С. 6-25;
- Мотрошилова Н.В. О современном понятии гражданского общества//Вопр. философии. 2009. № 5. С. 57-62;
- Сунгуров А. Ю. Взаимодействие власти и структур гражданского общества: возможные модели//Гражданский диалог. 2008. № 3. С. 37-40;
- Тамбовцев В. Л. Государство как инициатор развития гражданского общества//Общественные науки и современность. 2007. № 2. C. 99-106;
- Якимец В. И. Третий сектор: состояние, проблемы роста и развития, место и роль в общественной жизни России//Школа культурной политики. 2007. № 5. С. 35-39 и др.
- Горшков М. К. Гражданское общество и демократия участия в пореформенной России: Выступление на III съезде некоммерческих организаций России. URL: http://www.youtube.com/watch?v=WggDrM4-mj0. Загл. с экрана.
- Рассадина Т. А., Миронова Н. А. Доверие власти в условиях «общества риска» (на примере российских провинциальных городов)//Власть. 2011. № 7. С. 105-108;
- Рассадина Т. А. Доверие к средствам массовой информации в условиях «общества риска» (на примере российских провинциальных городов)//Изв. высш. учеб. заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2012. № 1. С. 61-70.
- Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М.: ACADEMIA, 1995. 87 с.
- Бурдье П. Формы капитала//Экономическая социология. 2002. Т. 3, № 5. С. 60-74.
- Putnam R. D. Bowling Alone. The collapse and revival of American community. N. Y.: Simon and Shuster, 2000. 312 p.
- Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий//Общественные науки и современность. 2001. № 3. С. 121-139.
- Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М.: АСТ Хранитель, 2006. 730 с.
- Романенко Л. М. Гражданское общество в России. М., 2005. 205 с.
- Воспитание гражданских добродетелей: как изменилось общество России за 10 лет?//Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Бюл. I. 2015. № 1(5), март. 61 с.