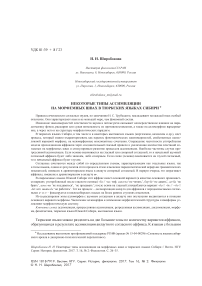Некоторые типы ассимиляции на морфемных швах в тюркских языках Сибири
Автор: Широбокова Наталья Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Правила сочетаемости согласных звуков, по замечанию Н. С. Трубецкого, накладывают на каждый язык особый отпечаток. Они характеризуют язык в не меньшей мере, чем фонемный состав. Изменение закономерностей сочетаемости звуков в потоке речи оказывает непосредственное влияние на парадигматику фонем, расширяя или сужая возможность их противопоставления, а также на алломорфное варьирование, а через него и на структуру морфологических парадигм. В тюркских языках Сибири, в том числе и в некоторых кыпчакских языках (киргизском, казахском и др.), идет процесс, который можно охарактеризовать как перенос фонотактических закономерностей, свойственных односложной корневой морфеме, на межморфемные консонантные сочетания. Сокращение частотности употребления модели присоединения аффиксов через соединительный гласный привело к увеличению количества сочетаний согласных на морфемных швах и стимулировало развитие процессов ассимиляции. Наиболее частотны случаи прогрессивной ассимиляции. Если основа оканчивается на гласный или сонорный согласный, то и начальный шумный согласный аффикса будет либо звонким, либо сонорным. Если слово (основа) оканчивается на глухой согласный, то и начальный аффикса будет глухим. Согласные сочетаются между собой по определенным схемам, характеризующим как отдельные языки, так и типы языков, одним из результатов этого процесса стало изменение парадигматической иерархии грамматических показателей, имевших в древнетюркском языке в анлауте сонорный согласный. В первую очередь это затрагивает аффиксы, имевшие в древнетюркском в анлауте m-. В современных языках Южной Сибири этот аффикс имеет основной вариант (в качестве основного принимается вариант, употребляемый после гласного основы) -ба // -ва: тоф. сана-ва ‘не читать', бер-бе ‘не давать', ал-ба ‘не брать', алыс-па ‘не поддаваться', ‘не продавать'; после основ на гласный употребляется вариант -ба // -бе // =бо // -бö: алт. иште-бе ‘не работать'. Тот же процесс - десоноризация анлаута для аффиксов с переднеязычными согласными н- и л- - фиксируется в южносибирских языках на более ранних ступенях изменения. Из-за расширения зоны алломорфов с шумным согласным в анлауте они постепенно выдвигаются в позицию основного варианта морфемы. Увеличение алломорфов и затемнение морфологической структуры словоформы усложняют морфологическую систему.
Ассимиляция, прогрессивная ассимиляция, регрессивная ассимиляция, диссимиляция, морфема, фонотактика, тюркские языки южной сибири, кыпчакские языки
Короткий адрес: https://sciup.org/147219734
IDR: 147219734 | УДК: 81:39
Текст научной статьи Некоторые типы ассимиляции на морфемных швах в тюркских языках Сибири
Тюркские языки можно разделить на две большие зоны по количеству вариантов аффиксов, образующихся в результате ассимиляции анлаутного согласного аффикса. К языкам с большим
⃰ Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-04-00296 «Сложность языков сибирского ареала в диахронно-типологической перспективе»).
Широбокова Н. Н. Некоторые типы ассимиляции на морфемных швах в тюркских языках Сибири // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 2: Филология. С. 26–35.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 2: Филология
количеством вариантов аффиксов, а следовательно, с сильно развитой ассимиляцией, относятся кыпчакские и тюркские языки Сибири. Процессы ассимиляции, особенно после сонорных, различаются. Среди сибирских тюркских языков сильно развитой ассимиляцией выделяется якутский. Спецификой ассимиляции в якутском, в сравнении с другими тюркскими языками, является, например, то, что в пределах одной парадигмы в якутском может использоваться и прогрессивная, и регрессивная ассимиляция: ат - быт > аппыт ‘наша лошадь’, ыт - ка > ыкка ‘собаке’. Очень характерная для якутского языка ассимиляция внутри основы имеет особые закономерности и твердо не установилась даже в пределах говоров [Убрятова, 1960. С. 100]. Механизмы присоединения аффиксов к основе различны. Только две трети аффиксов с начальными согласными, рассмотренных в работе Л. Н. Харитонова «Современный якутский язык» [1947], меняют начальный согласный аффикса в зависимости от конечного согласного основы. Более последовательно ассимилируются словоизменительные аффиксы. Неизменяемые аффиксы (речь идет только об изменении согласных, гармонии гласных подчиняются все аффиксы) могут присоединяться к основе при помощи соединительной гласной (- талаа – форма многократного вида глаголов: быс - > быhыталаа , тут - > тутуталаа ), выпадения конечного согласного основы (словообразовательный аффикса имен существительных - был: эрэн - > эрэбил ‘надеяться’), выбора между консонантно-начальным и вокально-начальным вариантами аффикса: аффиксы принадлежности - а // - та .
В качестве начальных согласных ассимилируемых аффиксов в якутском языке выступают б, л, т, г, h ( с ). Например:
-
1) - быт (- пыт // - мыт ) - аффикс принадлежности 1-го л. мн. ч., в древних тюркских языках этот аффикс имел следующие формы: в орхоно-енисейских - miz, - mTz, - muz, - muz , в уйгурских - umuz, - z'mzz . В некоторых современных тюркских языках (турецком, туркменском, азербайджанском, узбекском) сохраняется древняя форма с начальным m , а в сибирских тюркских языках, а также в башкирском, киргизском, кумыкском, татарском начальный m - аффикса деназа-лизуется в b -;
-
2) - лар (- тар, - дар, - нар ) - аффикс множественного числа, встречается во всех тюркских языках и имеет от 1 (в литературном узбекском) до 16 (в якутском, тувинском) вариантов. По типу ассимиляции начального согласного этого аффикса языки можно разделить на две группы. В первую, которая характеризуется полной ассимиляцией после - л ( лар ) и - н ( нар ), входят хакасский, язык желтых уйгуров, шорский языки, тоджинский диалект тувинского языка. Во второй группе аффикс на - л диссимилируется после - л , - н основ – это алтайский, киргизский, казахский языки. Тувинский занимает промежуточное место между этими группами: аффикс на - л диссимилируется в - д после основы на - л , но назализуется после - н . Якутский приближается к первой группе, отличаясь от нее переходом - л > - д после - й и - р ;
-
3) изменение аффиксов с анлаутным т -. Аффикс местного падежа (в якутском языке ‒ частного падежа; древнее значение местного падежа сохранилось только в наречиях и местоимениях). В орхонских памятниках регулярно употребляется - ta после сонорных и звонких, а - da после глухих и в интервокальном положении, хотя отступления от общего правила все же встречаются: sabymda ‘в моей речи’, kеmdä ‘у реки Кем’, käčindä ‘у Кечина’. Сочетания типа rd, ld на слогоразделе характерны для некоторых енисейских памятников (№ 5-9, 11, 13, 14,25, 29) [Батманов и др., 1962. С. 48]. В рукописных текстах единого правила не установлено. Некоторые имена принимают то ту, то другую форму: ayryy + ta , atuz + ta , bas + ta , yol + ta , od + to , Trag + ta , jir + da , aja + da [Gabain, 1950. S. 182]. В более поздних гератских и караханидских памятниках закономерность употребления - та и - да сходна с большинством современных языков, хотя встречаются некоторые отклонения ( ištä ~ išdä ) [Brockelmann, 1954. S. 127].
Употребление глухого варианта аффикса в интервокальном положении отличает якутский язык от древних и большинства современных тюркских языков, сближая с языками желтых уйгур и барабинских татар. Но все остальные формы ассимиляции этого аффикса характерны только для якутского языка, что еще раз свидетельствует о том, что ассимиляция развивалась в отдельных группах тюркских языков уже в послеорхонский период.
Если ассимиляция словоизменительных аффиксов довольно последовательна, то ассимиляция внутри основ имеет свои закономерности, которые значительно различаются по диалектам. По этому, второму, типу могут изменяться и словообразовательные аффиксы в производных основах. Например, изменения аффикса - сыт при присоединении к основам на - л : ‘гость’ – ыалдьыт, ыальдьыт, ыадьдьыт, ыальльыт ; ‘следопыт’ - суолдьут, суольльут, суольдут ; ‘охотник’ - булчут , бульчут , буччут , бурчут , булчук киhи [Убрятова, 1960. С. 110-111].
Якутский аффикс - сыт соответствует аффиксу - чы других тюркских языков; с , возникший из ч , в зависимости от конечного согласного основы, может переходить в - ч -, - дь -, - нь -. По-другому протекает ассимиляция в аффиксах, сохранивших древнетюркский č .
Ср. як. бачча ‘столько’ < др. т . bunča ; в других родственных языках: хак. мынча ( мынжа ), алт. мынча , тув. мынча , кирг. мынча ; хак. анча ( анжа ), алт. анча , тув. ынча , кирг. анча – в тех же значениях. В употреблении этого аффикса обращают на себя внимание два момента: сохранение древнетюркского č и разный характер ассимиляции после н основы. Древнетюркский č сохраняется и не переходит в s и в некоторых других аффиксах: уменьшительно-ласкательный аффикс - чык ( аанчык, догорчук, догоччук, кулунчук ). Этот аффикс встречается в древнетюркском ( оɣlančïq ) и сохраняется в некоторых современных тюркских языках: тув. - чык , - жык ; хак. - чак , алт. - чак . Ч экватива сохраняется почти без исключений. Единственный пример перехода č > s ( h ) в вопросительном местоимении тöhö . Е. И. Убрятова отметила, что сочетание - nč -, образованное на стыке основы и аффикса, в большинстве языков изменяется по тем же правилам, что - nč - в неразложимых основах: сохраняется без изменений в алтайском, татарском, киргизском, узбекском, тувинском языках. В азербайджанском, гагаузском, турецком, хакасском č озвончается. В казахском и каракалпакском языках, как известно, č > s . В якутском языке в неразложимых основах - нч - > - ньнь -. Но при присоединении аффикса - ча правила сочетаемости оказываются различными: 1) полная регрессивная ассимиляция в местоимениях бачча, оччо ‘cтолько’; 2) сохранение сочетания - нч - в приблизительных числительных: уонча ‘около десяти’. Возможно, это объясняется тем, что в тот период, когда пс > уу , са сохранял еще некоторые особенности послелога. А полная регрессивная ассимиляция в местоимениях и наречиях вызвана тем, что они в современном якутском языке воспринимаются как непроизводные. Присоединяясь к основам на гласный, č аффикса удваивается: итиччэ ‘cтолько’, сүүрбэччэ ‘около двадцати’. Такая его особенность могла препятствовать переходу ч в С . Геминация может использоваться для сохранения исходной, более древней формы.
Сильно развитая ассимиляция привела к появлению большого количества удвоенных согласных. Но не все долгие (удвоенные) в якутском языке могут быть объяснены ассимиляцией. Эти долгие согласные могут соответствовать кратким согласным других языков: монг. soqur > як. соххор ‘одноглазый’, - чч - в аффиксе имени деятеля - аччы < монг. ači ; интересно еще и то, что вторая форма с удвоенным - чч - встречается в хакасском и тувинском языках. Для современного якутского языка противопоставление по долготе – краткости не является фонологическим. Геминированные согласные встречаются во всех тюркских языках, не представляя системы, такой как в финно-угорских. Их происхождение объясняют различными причинами: влиянием других языков, выражением количественной и качественной семантики, редукцией узкого гласного второго слога, исчезнувшей долготой гласного.
Одной из причин образования неассимилятивных долгих согласных может быть следующая: долгота согласного является сопутствующим качеством, присущим сильному согласному в интервокальном положении. Так, например, в тофском языке в интервокальной позиции существует четкое противопоставление сильных и слабых согласных. При этом сильные согласные всегда глухие и долгие. Сильные ауслаутные s и t, попав в интервокальное положение, усиливаются, вплоть до геминации [Рассадин, 1971. С. 63]. В тувинском языке в интервокальном положении k и p в одиночном виде не встречаются. Например, пишут эки ‘хорошо’, а произносят экки, пишут акый ‘старший брат’, а произносят аккый. В слове апар- ‘становиться чем-то’ для различия его на письме от слова аппар (ап + баар) ‘унести’ пишется одно п, хотя в произношении эти слова не различаются [Исхаков, Пальмбах, 1961. § 92, 96]. Можно предположить, что якутский язык прошел через такую же стадию развития фонологической системы, когда сильные согласные в интервокальном положении усиливались вплоть до геминации.
При дальнейшем развитии фонологических систем разных тюркских языков эта позиционная долгота отразилась по-разному. В некоторых языках оттенковый признак, не игравший смыслоразличительной роли, стал ведущим – фонематическим. Так, в алтайском языке (ал-тай-кижи) согласные подразделяются на шумные и малошумные. Шумные могут быть долгими и краткими, долгие употребляются только в середине слова, преимущественно в морфологически неразложимых основах. В якутском языке, фонологическая система которого претерпела очень сильные изменения, этот признак отразился непоследовательно: 1) как удвоенный согласный ( икки, сэттэ ); 2) исчезновение долготы и озвончение согласного в интервокальном положении ( о^ус, то^ус ); 3) исчезновение долготы, но сохранение глухости.
В тюркологии законам сочетаемости звуков посвящено немало специальных исследований. Сочетание сонорный + шумный глухой на морфемном шве С. Е. Маловым рассматривалось как классификационный признак, характеризующий сохранение в языке древних черт. Большой интерес для истории тюркских языков представляет позиция сонорного в сочетании с шумными внутри морфемы и на морфемных швах.
На морфемных швах в языке рунических памятников были возможны сочетания шумный глухой + шумный звонкий, шумный звонкий + шумный глухой, шумный + сонорный, сонорный + шумный глухой , сонорный + шумный звонкий. В древнетюркском языке процессы варьирования консонатно-начальных аффиксов в зависимости от исхода основы затрагивают только шумные согласные: tap - dim , asi - di - miz , olur - 1 - di", az - ft", sub - qa и т д. Проблема сочетаемости шумных согласных по диссимиляционному типу получила различное объяснение у таких исследователей, как Л. Йохансен [Johanson, 1979], Э. Р. Тенишев [1973], И. В. Корму-шин [2004] и др. Обобщение этих точек зрения представлено в монографии А. С. Аврутиной [2011]. В данной статье затрагивается один тип сочетаний: шумный + сонорный .
Сочетания по принципу диссимиляции (контрастной сочетаемости) служили пограничным сигналом на морфемных швах и поддерживали прозрачность морфемной структуры слова. Высокая частотность сонорных в анлауте аффиксов, при ограниченном их употреблении в анлауте слова 1 тоже служила своеобразным маркером аффиксальной морфемы.
Изменение закономерностей сочетаемости звуков в потоке речи оказывает непосредственное влияние на парадигматику фонем, расширяя или сужая возможность их противопоставления, а также на алломорфное варьирование, а через него и на структуру морфологических парадигм.
Согласные сочетаются между собой по определенным схемам, характеризующим как отдельные языки, так и типы языков. Для языка тюркских рунических памятников внутри односложной корневой морфемы было возможно только сочетание сонорный + шумный : elt ‘тянуть’, alp ‘герой’, türk ‘тюрок’, qïrq ‘сорок’ и, реже, шумный спирант + шумный смычный , например: alt ‘низ’ [Кононов, 1980. С. 75]. Эта закономерность сохранилась и в современных тюркских языках: так, в односложных словах в казахском языке зафиксировано 17 двухэлементных сочетаний согласных, самыми предпочтительными в первой от гласного ядра позиции являются сонанты: они встречаются в 16 из 17 сочетаний, во второй позиции употребляются только шумные согласные, подобная же картина в каракалпакском: в 92,3 % случаев первую позицию занимают сонанты, во второй позиции – только шумные согласные [Авазбаев, 1992. С. 23–24]. В тюркских языках Сибири (а также в некоторых кыпчакских языках – киргизском, казахском и др.) идет процесс, который можно охарактеризовать как перенос фонотактических закономерностей, свойственных односложной корневой морфеме, на межморфемные консонантные сочетания.
Возникший в ряде тюркских языков запрет на сочетания типа шумный + сонорный на морфемных швах привел к серьезным сдвигам как на фонологическом, так и на морфологическом уровнях. В результате действия этого запрета вместо одновариантных аффиксов (по начальному согласному) возникают многовариантные аффиксы.
Одним из результатов этого процесса стало изменение парадигматической иерархии грамматических показателей, имевших в древнетюркском в анлауте сонорный согласный. В первую очередь это затрагивает аффиксы, имевшие в древнетюркском в анлауте m -; например, аффикс отрицания - ma у глаголов.
- m - аффикса восстанавливает Г. И. Рамстедт [Щербак, 1981. С. 98]. В др. т. - ma , - mä отрицательная основа глагола: qïlma - ‘не делать’, ölür - mä ‘не убивать’, и часть сложных аффиксов отрицательных инфинитных форм: - maz , - ma/z", mazYan и др. [ДТС, 1969. С. 657].
В современных языках Южной Сибири этот аффикс имеет основной вариант (в качестве основного принимается вариант, употребляемый после гласного основы) - ба // - ва : тоф. сана - ва ‘не читать’, бер - бе ‘не давать’, ал - ба ‘не брать’, алыс - па ‘не поддаваться’.
Вариант - ма может появиться только после основ, заканчивающихся на - н : hаактан - ба -(~ hаактан - ма - ‘не кататься на лыжах’) [Рассадин, 1978. С. 170].
тув.: - па // - пе после шумных согласных; - ба // - бе после л, р, й, г ; - ва // - ве после гласных и - ма // - ме после м, н, ^ : тут - па ‘не держать’, ал - ба ‘не брать’, бода - ва ‘не думать’, мун - ма ‘не ехать верхом’. В западном и переходном диалектах в позиции после - м и - н появляется п -: хөм - пе ‘не закапывать’, сагын - па ‘не вспоминать’.
хак.: после основ на гласную и сонорные р, п, л, й употребляется вариант - ба // - бе : сине - бе ‘не измерять’, пар - ба, хал - ба ; после основ на - н, - нъ, - м употребляется вариант - ма // - ме : ай-лан - ма - ‘не возвращаться’, сом - ма ‘не купаться’; после основ на шумный согласный идет вариант на - па // - пе : сат - па ‘не продавать’ [Дыренкова, 1948. С. 72].
алт.: после основ на гласный употребляется вариант - ба // - бе // - бо // - бо: иште - бе ‘не работать’; после основ на р, л, й - - ба // - бе // - бо // - бо : кел - бе ‘не приходить’, бар - ба ‘не идти’; после основ на шумный употребляются варианты с начальным п - [Дыренкова, 1940. C. 155].
В якутском языке отрицательный аспект глагола образуется при помощи аффикса - ма // - ыма : ытаа - ‘плакать – ытаа - ма ‘не плакать’, санаа ‘думать’ – санаа - ма ‘не думать’, киир ‘входить’ – киир - име ‘не входить’ [ГСЛЯЯ, 1982. C. 226].
Но такой способ присоединения к основе, заканчивающейся на согласный, аффикс отрицания имеет далеко не во всех глагольных формах.
В форме отрицательных причастий на - бат (отрицательное причастие настоящего времени), - батах (отрицательное причастие прошедшего времени) показатель отрицания как бы утрачивает связь со своим исходным вариантом и в позиции после гласного употребляется уже как шумный согласный: кэпсээ - бэт , аhаа - бат ; ыл - бат , бар - бат , - оглушаясь после глухого шумного согласного основы: тик - пэт, аах - пат и т. д.
Ср. форму отрицательного деепричастия в якутском с другими тюркскими языками Сибири: в большинстве тюркских языков одна отрицательная форма и для деепричастия на - ып (як. - ан ), и для деепричастия на - а : др. т. - майын ; тув. - байн ; тоф. - бейн ; хак. - бин ; шор. - баан , алт. сев. диал. - бийн , алт. южн. диал. - май ; як. - ымына .
Если отрицательный аффикс находится в структуре вторичного аффикса, который присоединяется к глагольным основам, заканчивающимся на согласный при помощи соединительного гласного, то - м - в структуре этого аффикса сохраняется, если отрицательный компонент входит в структуру вторичного аффикса, который присоединяется к глагольной основе непосредственно, то м > б , даже в позиции после гласного основы. Южносибирские языки полностью сменили основной вариант с шумным согласным в анлауте, якутский – частично. Таким образом, якутский не пошел столь последовательно, как другие южносибирские языки, в смене основного варианта аффикса глагольного отрицания.
Тот же процесс – десоноризация анлаута для аффиксов с переднеязычными согласными н- и л- – фиксируется в южносибирских языках на более ранних ступенях изменения. В южносибирских языках падежная система представлена преимущественно кыпчакским и уйгуро-кыпчакским подтипами. Соответственно, аффиксы в безличной парадигме имеют консонантно-начальные варианты [Благова, 1982. С. 49–52]. Поэтому можно проследить за изменениями начального н- аффиксов на примере винительного и родительного падежей.
В древнетюркском языке винительный падеж после согласных был представлен аффиксом - γ , - g , очень редко - nï , - ni , - n – в лично-притяжательной парадигме, после гласных – - nï // - ni , родительный - Ту // - iy ; - ig // - Ту , после согласных; - пТу // - niy после гласных. В древнетюркском уже формировался тип, близкий современным огузским языкам, где выбор консонантно-начального или вокально-начального варианта аффикса зависит от исхода основы. Унаследовал этот тип и якутский язык: - ны , - ни , - ну , - ну - после гласных, - ы , - и , - у , - у - после согласных.
В южносибирских тюркских языках варианты падежных аффиксов (по начальному согласному) образовывались в результате действия двух закономерностей: 1) после шумного согласного основы не употреблялся сонорный; 2) в разных тюркских языках сложились отличающиеся друг от друга закономерности сочетания между собой сонорных – поэтому после шумных возникает вариант аффикса с шумным анлаутом: - ты (аффикс винительного падежа), - тыӊ (аффикс родительного падежа), во всех остальных позициях сохраняется - н -:
тоф. род. п.: - тыӊ , - тiӊ , - туӊ , - тӱӊ после шумных: аът - тыӊ ‘коня’, эът - тиӊ ‘мяса’, эш - тiӊ ‘друга’ и т. д.; - ныӊ , - нiӊ , - нуӊ , - нүӊ после гласных и всех сонантов: даг - ныӊ ‘горы’, ай - ныӊ ‘месяца’, кар - ныӊ ‘снега’, чаа - ныӊ ‘войны’;
вин. п.: - ны , - ни , - ну , - нү , если основа оканчивается на любой гласный и сонант: суг - ну ‘воду’, hам - ны ‘шамана’, ай - ны ‘месяц’, чаа - ны ‘войну’; - ты , - ти , - ту , - тү – если основа оканчивается на шумный согласный: балык - ты ‘рыбу’, эът - ти ‘мясо’ [Рассадин, 1978. C. 30–31].
По этому же типу меняется форма аффиксов в чулымско-тюркском языке, встречается этот тип и в хакасском, но в сагайском после - р , - л появляется вариант со звонким шумным - дыӊ , - ды ; т. е. зона шумных аллофонов раздвигается, этот процесс идет уже под влиянием запретов на сочетаемость сонорных. В алтайском языке аффиксы с шумным в анлауте появляются после двойного узкого - уу -, - уу -: черу - динъ, черу - ди ; после р, л, й : мал - дынъ, мал - ды . Винительный падеж с шумным в анлауте появляется после - н , - нъ , - м : таан - ды , но таан - нынъ, анъ - ды, но анъ - нынъ [Дыренкова, 1940. С. 67].
Н. А. Баскаков в туба-диалекте отмечает факультативные варианты - нынъ // - дынъ , - ны // - ды после гласного основы [1966. С. 60].
Такие же варианты встречаются в шорском диалекте хакасского языка: түлгү - дi ‘лисицы’ [Межекова, 1973. С. 58]; акча - ды ~ акча - ны ‘деньги’; пуза - ды ~ пуза - ны ‘теленка’.
Из-за расширения зоны алломорфов с шумным согласным в анлауте они постепенно выдвигаются в позицию основного варианта морфемы.
В большой группе современных тюркских языков, в том числе во всех тюркских языках Сибири, сформировался запрет на употребление сонорных после шумных на морфемном шве, что отличает их от югозападных тюркских языков (турецкий, азербайджанский, узбекский, карачаево-балкарский), где этот тип сочетания сохраняется: тур. ev ‘дом’ - evler ‘дома’, sokak ‘улица’ – sokaklar ‘улицы’, çoсuk ‘ребенок’ – çoсuklar ‘дети’ и т. д.
Запрет на сочетания типа шумный + сонорный послужил одним из стимулов развития ассимиляции на морфемных швах, вместо одновариантных аффиксов (по начальному согласному) - lar (множественное число), - liy (аффикс обладания), - ma , - maz (глагольные отрицательные аффиксы) и т. д. возникают многовариантные аффиксы: - lar , - tar , - dar , - nar и др.
Одним из результатов этого запрета стало изменение парадигматической иерархии грамматических показателей, имевших в древнетюркском языке в анлауте сонорный: как основной вариант аффикса стал восприниматься десоноризованный (деназализованный): хак. сине - бе ‘не измеряй’; тоф. сен бар - ба ‘ты не уходи’ и т. д. Ср. як. аhаа - ма ‘не ешь’, но аhаа=бат отрицательная форма причастия прошедшего времени. Этот процесс охватывает не только дву-и трехкомпонентные аффиксы, но и аффиксы, состоящие из одного согласного, например залоговые показатели, которые могут оказаться в постконсонантной позиции после выпадения узкого гласного при аффиксальном наращении, когда следующий аффикс начинается с широкого гласного, см. як. ытын - + - ар > ыттар ‘взбирайся’. Такие изменения ведут к сильному
«затемнению» морфологической структуры слова. Увеличение алломорфов и затемнение морфологической структуры словоформы усложняют морфологическую систему.
Построение сочетаний согласных по нисходящей звучности, когда сонорный всегда предшествует шумному, характерно не только для восточной группы тюркских языков. Оно типично для бурятского языка, нганасанского, чукотского и др. Это дает возможность поставить вопрос об ареальном характере этого явления.
Список литературы Некоторые типы ассимиляции на морфемных швах в тюркских языках Сибири
- Авазбаев Н. Фонотактическая структура односложных слов во флективных и агглютинативных языках: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. СПб., 1992.
- Аврутина А. С. Древнетюркские рунические памятники. Система письма и фонологическая реконструкция. М.: Едиториал УРСС, 2011. 136 с.
- Баскаков Н. А. Диалект черневых татар (туба-кижи). Северные диалекты алтайского (ойротского) языка: Грамматический очерк и словарь/Под ред. Э. А. Груниной, Е. А. Поцелуевского. М.: Наука, 1966. 173 с.
- Батманов И. А., Арагачи З. Б., Бабушкин Г. Ф. Современная и древняя енисеика. Фрунзе: Изд-во АН КиргССР, 1962. 259 с.
- Благова Г. Ф. Тюркское склонении в ареально-историческом освещении/Под ред. Э. В. Севортяна, Н. З. Гаджиевой. М., 1982. 303 с.
- Грамматика современного якутского литературного языка/Под ред. Е. И. Убрятовой. М.: Наука, 1982. 495 с.
- Древнетюркский словарь/Под ред. В. М. Наделяева, Д. М. Насилова, Э. Р. Тенишева, А. М. Щербака. Л.: Наука, 1969. 677 с.
- Дыренкова Н. П. Грамматика ойротского языка/Под ред. С. Е. Малова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. 302 с.
- Дыренкова Н. П. Грамматика хакасского языка/Под ред. Н. Г. Доможакова. Абакан: Хакоблнаучиздат, 1948. 123 с.
- Исхаков Ф. Г., Пальмбах А. А. Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология/Под ред. Е. И. Убрятовой. М.: Вост. лит., 1961. 472 с.
- Кононов А. Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников (VII-IX вв.). Л.: Наука, 1980. 255 с.
- Кормушин И. В. Древние тюркские языки: Учеб. пособие. Абакан: Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2004. 336 с.
- Межекова Н. Н. Шорский диалект//Диалекты хакасского языка. Очерки и материалы: Сб. науч. ст./Под ред. Д. Ф. Патачаковой. Абакан: Краснояр. кн. изд-во. 1973. С. 49-66.
- Рассадин В. И. Морфология тофаларского языка в сравнительном освещении/Под ред. Л. Г. Шагдарова. М.: Наука, 1978. 288 с.
- Рассадин В. И. Фонетика и лексика тофаларского языка/Под ред. Ц. Б. Цыдендамбаева. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1971. 252 с.
- Тенишев Э. Р. Смычные согласные в языке тюркских рунических памятников//Сов. тюркология. 1973. № 2. С. 40-45.
- Убрятова Е. И. Опыт сравнительного изучения фонетических особенностей языка населения некоторых районов Якутской АССР/Под ред. Л. Н. Харитонова. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 151 с.
- Харитонов Л. Н. Современный якутский язык/Под ред. Н. К. Дмитриева. Якутск: Якут. кн. изд-во,1947. Ч. 1: Фонетика и морфология. 312 с.
- Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков. Глагол/Под ред. С. Н. Иванова. Л.: Наука, 1981. 183 с.
- Brockelmann C. Osttürkische Grammatik der islamischen Litearaturschprachen Mittelaziens. Leiden: E. J. Brill, 1954. 429 S.
- Gabain A. Alttürkische Grammatik. Leipzig: Otto Harrassowitz, 1950. 373 S.
- Johanson L. Alttürkisch als «dissimilierende Sprache». Wiesbaden: Academie der Wissenshcaften und der Literatur Mainz, Franz Steiner Verlag GMBH, 1979. 157 S.