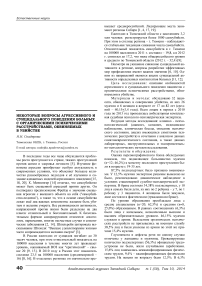Некоторые вопросы агрессивного и суицидального поведения больных с органическими психическими расстройствами, обвиняемых в убийстве
Автор: Спадерова Н.Н.
Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws
Рубрика: Психиатрия. Неврология
Статья в выпуске: 1 (50) т.10, 2014 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140219372
IDR: 140219372
Текст статьи Некоторые вопросы агрессивного и суицидального поведения больных с органическими психическими расстройствами, обвиняемых в убийстве
В последние годы все чаще обсуждаются проблемы роста преступности в стране, тяжких преступлений против жизни и здоровья личности [5]. Изучение феномена агрессии приобретает особую актуальность в современных условиях, что объясняет большое количество разнообразных подходов к её изучению и создание адекватных моделей агрессивного поведения [15, 18, 20]. К. Меннингер [14] отмечал, что самоубийство может быть смещенной агрессией против других. Он подтвердил предположение Фрейда о значении смещения агрессии с внешнего объекта на себя ("самоубийство-подмена"), а также то, что в основе самоубийства лежат ещё два важных компонента: желание быть убитым и желание умереть. Все разновидности активности, направленной против жизни были разделены на два класса: сознательный и бессознательный. К бессознательным формам саморазрушения относятся: алкоголизм, наркомании, многие несчастные случаи и соматические заболевания [2, 14]. Шпильрейн цитировала высказывание Штекеля: "Высшее удовлетворение жизнью часто сопровождается в желании смерти" [3].
В России ежегодно от суицидов погибает до 30 тысяч человек, при этом относительный показатель на 100000 населения в течение многих лет превышает уровень, оцениваемый ВОЗ как "критический" - свыше 20 [9, 13]. В 2010 году в России этот показатель составил 23,5 на 100000 населения (среднемировой -16) [8, 16]. В отдельных регионах он значительно пре- вышает среднероссийский. Лидирующие места занимают регионы Сибири [1, 4, 17, 19].
Ежегодно в Тюменской области с населением 3,2 млн человек регистрируется более 1000 самоубийств. При этом в столице региона - г. Тюмени - наблюдаются стабильная тенденция снижения числа самоубийств. Относительный показатель самоубийств в г. Тюмени на 100000 населения в 2011 г. составил - 19,8, а в 2012 г. снизился до 17,2, что ниже общероссийского уровня и среднего по Тюменской области (2012 г. - 32,4) [9].
Несмотря на указанное снижение суицидальной активности в регионе, вопросы разработки эффективных мер профилактики имеют важное значение [6, 10]. Одним из направлений является анализ суицидальной активности определенных контингентов больных [11, 12].
Цель исследования: описание особенностей агрессивного и суицидального поведения пациентов с органическими психическими расстройствами, обвиняемыми в убийстве.
Материалы и методы: обследовано 32 пациента, обвиняемых в совершении убийства, из них 26 мужчин и 6 женщин в возрасте от 17 до 82 лет (средний - 40,15+3,4 года). Всем лицам в период с 2010 года по 2013 год проводилась амбулаторная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.
Ведущие методы исследования: клинико - психопатологический (анамнез, катамнез, медицинское наблюдение, клиническая беседа, описание психического состояния, анализ имеющихся симптомов психических расстройств) в сочетании с анализом данных соматоневрологического состояния, а также данных лабораторных, инструментальных и экспериментально-психологических методов исследования.
Результаты и обсуждение:
Оценка персонографического блока обследуемых показала, что подавляющее большинство мужчин (n=12; 46,2%) к моменту последнего преступления были в возрасте с 19-35 лет.
87,5% подэкспертных было признано вменяемыми. У 12,5% мужчин экспертное решение вынесено не было, рекомендовано динамическое наблюдение в условиях стационарной судебно-психиатрической экспертизы. В браке состояло 34,38% подэкспертных, у 10 лиц в семьях были дети, из них по 2 ребенка - у 7, по 1 ребенку у 3 пациентов. 4 женщины были замужем, двое состояли в фактическом (гражданском браке).
По уровню образования преобладали лица с средне специальным (n=20; 62,5%) и средним (n=8, 25,0%) образованием. В равных соотношениях (6,3%) были лица с начальным, неоконченным высшим и высшим образовательным уровнем. 46,15% мужчин служили в армии. Вследствие органических психических расстройств не призывались на военную службу 38,5% лиц и были уволены из армии по этой же причине 15,4% мужчин.
Глухонемота и дефекты речи по одному случаю отмечены у женщины и мужчины. Превалирующее количество подэкспертных (56,3%) официально трудоустроены не были, жили случайными заработками. 15,6% лиц занимались неквалифицированным физическим трудом, 9,4% - квалифицированным физическим трудом. На пенсии по возрасту было 12,5%. В 6,3% случаях пациентам была оформлена группа инвалидности по общему заболеванию. Семейный анамнез был психопатологически отягощен в 7 случаях (21,9%) по алкогольной зависимости у родственников первого и второго уровней и в 15,6% по суицидальной активности (у двух мужчин отцы в состоянии алкогольного опьянения совершили завершенный суицид через са-моповешение). По характеру воспитания преобладал (56,3%) тип "гипоопека", 25,0% "гиперопека", 12,5% – "ежовые рукавицы", в единичных случаях – "отверженные". Среди женщин преобладал тип "гиперопека".
По нозологическому принципу подэкспертные распределились следующим образом: органическое личностное расстройство по МКБ-10 - F07.00, F07.08 – 21,9% (n=7); органическое непсихотическое расстройство F06.820, F06.828 – 78,2% (n=25). Синдром зависимости от алкоголя наблюдался у 37,5%; синдром зависимости от опиатов и психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств – 6,3%.
Анализируя криминологические данные о прошлом обследуемого контингента, было выявлено, что 62,5% из них подпадали ранее под уголовную ответственность (ст. 119 УК РФ, 161 УК РФ, 116 УК РФ, 105 УК РФ). Среди мотивов убийств можно выделить следующие: месть, связанная с представлениями о справедливости или ревностью (37,5%); утверждение себя в глазах ближайшего окружения и в собственных глазах, обеспечение самоприятия (46,9%); уничтожение источника тяжелой психотравмы, в том числе связанной с подростковыми переживаниями, с защитой своего биологического и социального статуса (15,6%). Некрофильного влечения к смерти, убийства ради убийства не наблюдалось. 87,5% убийств было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Женщины совершали агрессивные действия против ближайшего окружения (муж, пасынок, сын, сожитель). Мужчины в трех случаях совершили убийства двух и более лиц. У обвиняемых мужчин пострадавшими были: их родственники (12 человек, из них 10 жены или сожительницы), соседями и знакомыми (n=14).
При активном опросе выявлены отдельные формы суицидального поведения 48,9% (n=15), из них у женщин (n=2; 33,3%) и у половины мужчин. Среди которых ведущее место занимали антивитальные переживания (26,66%) и суицидальные мысли (13,3%). В единичных случаях регистрировались суицидальные замыслы и суицидальные намерения. Суицидальные попытки наблюдались у 21,9% (n=7) лиц, совершивших убийства. В 71,4% случаях попытки аутоагрессивного поведения предпринимались в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Наиболее часто (n=5) они встречались у больных с органическим личностным расстройством последствиями черепно-мозговых травм, реже (n=2) у лиц органическим непсихотическим расстройством. По возрастному цензу преобладали больные 19-35 лет (12,5%). С меньшей частотой суицидальные попытки совершали лица 36-45 лет (6,3%), в единичном случае с 46 до 55 лет. Проведенный анализ показал, что среди пациентов, предпринимающих суицидальные попытки в подавляющем большинстве предпочли нанесение самопорезов (n=3;
9,4%), самоповешание (n=2, 6,3%), в единичных случаях повреждения ножом в брюшную полость и самоотравления. У 5 пациентов суицидальные попытки носили шантажный и демонстративный характер, 2-х истинный. Было установлено, что исследованные лица с аутоагрессивным поведением, указывали на суицидогенное влияние различных неблагоприятных социальных факторов, среди которых превалирующими являлись: выход на пенсию, потеря социального статуса, ухудшение материального положения, социальная и сенсорная депривация, ломка жизненных стереотипов, конфликты в семье, прием психоактивных веществ. У большинства пациентов (57,1%) ведущие мотивы суицидального поведения определялись депрессивными переживаниями: представления о бесцельности своего существования, чувство одиночества и ненужности, утрата надежды на изменение к лучшему, внутренней силы для жизни.
При патопсихологическом обследовании в межличностных отношениях отмечается – формальность и избирательность в общении, недоверчивость, скрытность, опережающая враждебность в высказываниях и поведении, конфликтность. Наблюдалось стремление к самоутверждению, внешнеобвиняющие формы реагирования на замечания извне. Межличностные контакты носили формальный характер. Обращало на себя недостаточность контроля над поведенческими реакциями и побуждениями. Поступки и высказывания были быстрыми, но недостаточно продуманными. Это – реагирование, обусловленное сиюминутными потребностями, выраженная тенденция к спонтанной самореализации.
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: среди лиц с органическими психическими расстройствами преобладали подэкспертные с средним специальным образованием, меньшим процентом заключенных законных браков. Многие обвиняемые воспитывались в неполных семьях в условиях безнадзорности, гиперопеки и гипоопеки. Прежний уголовный опыт предрасполагает к криминальным действиям в будущем. Большое значение оказывало действие алкоголя в криминальной ситуации. Чаще всего убийства совершались против родственников (жен), что может быть истолковано как бессознательное стремление к освобождению от психологической зависимости от жены, как эквивалента доминирующей в детстве матери. Среди патопсихологических характеристик преобладали: формальность и избирательность в общении, недоверчивость, скрытность, опережающая враждебность в высказываниях и поведении, конфликтность, стремление к самоутверждению, внешнеобвиняющие формы реагирования на замечания извне.
Прослеживается причинно-следственная связь между суицидальным поведением и агрессией. Высок процент психопатолгогической отягощенности семейного анамнеза аддиктивным и суицидальным поведением родственников 1 и 2 уровней. Почти у половины обследованных лиц наблюдались различные виды суицидального поведения. Сложным остаётся вопрос профилактики и превенции суицидальных действий. Мероприятия должны нести многогранный, мульти-дисциплинарный характер с учетом научных воззрений и работы с ближайшим окружением пациента, обучением их психологическим основам общения с психи- чески больным человеком и тактике поведения в конфликтных ситуациях [7, 11, 12].
Список литературы Некоторые вопросы агрессивного и суицидального поведения больных с органическими психическими расстройствами, обвиняемых в убийстве
- Балашов П.П., Сульдин А.М., Савченко М.Е. Некоторые результаты исследования аутоагрессивного и девиантного поведения коренного населения Ямало-Ненецкого автономного округа на фоне алкогольной зависимости//Тюменский медицинский журнал. -2013. -Том 15, № 3. -С. 4-5.
- Вагин Ю.Р. Корни суицидальной активности//Суицидология. -2011. -№ 4. -С. 3-10.
- Вагин Ю.Р. Теория деструктивного влечения Сабиины Шпильрейн//Суицидология. -2012. -№ 1. -С. 44-49.
- Говорин Н.В., Сахаров А.В., Ступина О.П., Тарасова О.А. Эпидемиология самоубийств в Забайкальском крае, организация кризисной помощи населению//Суицидология. -2013. -Том 4, № 1. -С. 48-54.
- Дмитриева Т.Д., Шостакович Б.В. Агрессия и психическое здоровье//Санкт-петербург Юридический центр Пресс, 2002. -459 с.
- Зотов П.Б. Опыт системного суицидологического учета: первичная документация//Академический журнал Западной Сибири. -2011. -№ 6. -С. 13-16.
- Зотов П.Б. "Жизнь после смерти" в суицидологической практике психотерапевта//Медицинская наука и образование Урала. -2012. -№ 4. -С. 158-159.
- Зотов П.Б., Родяшин Е.В. Суицидальные попытки в г. Тюмени//Тюменский медицинский журнал. -2013. -Том 15, № 1. -С. 8-10.
- Зотов П.Б., Родяшин Е.В. Суицидальные действия в г. Тюмени и юге Тюменской области (Западная Сибирь): динамика за 20072012 гг.//Суицидология. -2013. -Том 4, № 1. -С. 54-61.
- Зотов П.Б., Родяшин Е.В. «Суицидологический паспорт территории» как этап развития системы суицидальной превенции//Суицидология. -2013. -Том 4, № 4. -С. 55-60.
- Кожевникова Т.А., Кожевников В.Н. Методы оптимизации профилактики суицидального поведения//Суицидология. -2010. -№ 1. -С. 69-71.
- Корнетов Н.А. Что является лучшей формой профилактики суицидов?//Суицидология. -2013. -Том 4, № 2. -С. 44-58.
- Любов Е.Б., Морев М.В., Фалалеева О.И. Экономическое бремя суицидов в Российской Федерации//Суицидология. -2012. -№ 3. -С. 3-10.
- Меннингер К. Война с самим собой. -М., 2000.
- Петушкова А.М. Аспекты психодиагностического прогнозирования аутоагрессивного поведения осужденных, подозреваемых, обвиняемых//Тюменский медицинский журнал. -2013. -Том 15, № 3. -С. 32-33.
- Положий Б.С. Реформирование системы суицидологической помощи -необходимое условие совершенствования охраны общественного психического здоровья//Российский психиатрический журнал. -2011. -№ 6. -С. 11-17.
- Сахаров А.В., Говорин Н.В. Смертность по причине самоубийств в Забайкальском крае//Суицидология. -2011. -№ 1. -С. 48-51.
- Харитонова Н.К., Васянина В.И. Расстройства личности у женщин, совершивших агрессивные общественно опасные действия. -Москва, 2003. -31 с.
- Цыремпилов С.В. Суицидогенная ситуация в Бурятии: вопросы влияния этнокультуральных факторов и пассионарности этносов//Суицидология. -2012. -№ 3. -С. 48-51.
- Чистопольская К.А., Ениколопов С.Н., Магурдумова Л.Г. Медико-психологические и социально-психологические концепции суицидального поведения//Суицидология. -2013. -Том 4, № 3. -С. 26-36.