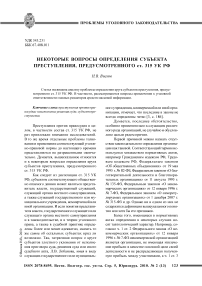Некоторые вопросы определения субъекта преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ
Автор: Висков Н.В.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Проблемы уголовного законодательства
Статья в выпуске: 2 (13), 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу проблемы определения круга субъектов преступления, предус- мотренного ст. 315 УК РФ. В частности, рассматриваются вопросы привлечения к уголовной ответственности главных редакторов средств массовой информации.
Преступления против правосудия, неисполнение решения суда, субъект преступления
Короткий адрес: https://sciup.org/14972705
IDR: 14972705 | УДК: 343.231
Текст научной статьи Некоторые вопросы определения субъекта преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ
Преступления против правосудия в целом, в частности состав ст. 315 УК РФ, не раз привлекали внимание исследователей. В то же время отдельные проблемы толкования и применения соответствующей уголовно-правовой нормы до настоящего времени представляются не разрешенными окончательно. Думается, вышесказанное относится и к некоторым вопросам определения круга субъектов преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ.
Как следует из диспозиции ст. 315 УК РФ, субъектом соответствующего общественно опасного деяния может являться представитель власти, государственный служащий, служащий органа местного самоуправления, а также служащий государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации. И если понятия представителя власти, государственного служащего или служащего органа местного самоуправления и в законодательстве, и в теории уголовного права, а также в судебной практике определены более или менее адекватно, сказать то же самое об остальных субъектах вряд ли возможно. Так, затрагивая вопрос о круге субъектов злостного уклонения от исполнения приговора суда, решения суда или иного судебного акта, Л.В. Лобанова, имея в виду служащих государственного или муниципаль- ного учреждения, коммерческой или иной организации, отмечает, что последние в законе не всегда определены четко [3, с. 186].
Думается, последнее обстоятельство, особенно применительно к служащим различного рода организаций, не случайно и обусловлено целым рядом причин.
Первой причиной можно назвать отсутствие законодательного определения организации как таковой. Соответствующий термин используется множеством нормативных актов, например Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ, Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ, Федеральным законом «О саморегу-лируемых организациях» от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ и др. Однако ни в одном из них не содержится дефиниция вышеуказанного понятия или хотя бы его признаков.
Более того, имеющиеся в нормативных актах определения в некоторых случаях носят тавтологический характер. Например, согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками, а ч. 1 ст. 3
Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ определяет последние уже через понятие некоммерческой организации. То есть приведенные нормы не отвечают на вопрос о содержании родового понятия «организация» применительно к ее отдельным разновидностям.
С точки зрения семантики анализируемый термин имеет несколько значений: 1) строение, устройство чего-либо; 2) совокупность людей, групп, объединенных для достижения какой-либо цели, решения какой-либо задачи на основе принципов разделения труда, разделения обязанностей и иерархической структуры; общественное объединение, государственное учреждение [5, с. 358].
Схожим образом определяется рассматриваемое понятие и в юридической литературе, где под организацией понимается: 1) основание, учреждение чего-либо; 2) учреждение, объединение, в том числе общественное; 3) планомерное продуманное устройство [4, с. 437].
Очевидно, что для целей уголовного права применимы те значения понятия организации, которые характеризуют ее как определенного рода институт. Опираясь на приведенные толкования и содержание действующего законодательства в соответствующей сфере, можно выделить следующие признаки организации: 1) множество участников (членов), то есть два и более; 2) общность задач или целей этих участников (членов); 3) внутренняя иерархическая структура; 4) распределение функциональных обязанностей внутри организации между ее членами; 5) установленная законом правовая форма. При этом, правда, следует оговориться, что возможны и исключения. Так, например, единственный учредитель общества с ограниченной ответственностью может одновременно выступать в качестве единоличного исполнительного органа данного общества и, таким образом, вести все его дела.
Однако только перечисленных признаков организации вряд ли достаточно для того, чтобы квалифицировать деяние того или иного лица, состоящего с ней в определенного рода отношениях, как преступление, предусмотренное ст. 315 УК РФ. Необходимым условием этого является правовой статус соответствующего субъекта, поскольку содержание диспозиции ст. 315 УК РФ указывает нам на то, что нарушить соответствующий уголовно-правовой запрет может только определенное лицо – служащий. В то же время под служащими соответствующих учреждений и организаций в науке понимаются лица, состоящие с таковыми в отношениях службы, то есть занятые интеллектуальным (не физическим) трудом на основе трудового договора (контракта) с получением за это вознаграждения от работодателя [1, с. 404–405]. Работодателем, в свою очередь, в силу ч. 4 ст. 21 Трудового кодекса РФ признается юридическое лицо (организация). Отмечается также, что к служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации можно отнести также и их руководителей [2, с. 145].
Обобщая вышесказанное, можно сделать следующий вывод: для признания лица субъектом преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, необходимо, чтобы оно состояло в отношениях службы с организаци-ей-юридическим лицом, поскольку в ином случае, согласно действующему законодательству, отношения службы (трудовые отношения) попросту невозможны, следовательно, невозможно и наделение лица обязанностями служащего. Это обстоятельство, на наш взгляд, является второй причиной, обусловливающей сложность определения круга субъектов преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ.
Однако содержание действующего законодательства далеко не всегда позволяет поставить знак равенства между понятиями «организация» и «юридическое лицо». Подобный вывод, в первую очередь, можно сделать из самого определения последнего понятия, содержащегося в ч. 1 ст. 48 Гражданского кодекса РФ, согласно которой юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Следовательно, юридическое лицо – всего лишь разновидность организации, обладающая определенным набором дополнительных признаков.
Еще одним аргументом в пользу вышеуказанного утверждения могут служить положения Федерального закона «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ. Так, согласно ч. 4 ст. 3 данного закона создаваемые гражданами общественные объединения могут регистрироваться в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, и приобретать права юридического лица либо функционировать без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица, а в соответствии с ч. 2 ст. 5 того же нормативного акта право граждан на создание общественных объединений реализуется как непосредственно путем объединения физических лиц, так и через юридические лица – общественные объединения.
Степень общественной опасности деяний, совершаемых лицами, состоящими в отношениях с организациями, не обладающими статусом юридического лица, на наш взгляд, может ничем не отличаться от степени общественной опасности содеянного служащими организаций-юридических лиц.
Так, на наш взгляд, определенную сложность в вышеназванном аспекте могут представлять отдельные ситуации в случае неисполнения судебных решений, вынесенных в отношении редакций средств массовой информации, что вытекает из нижеследующего.
Согласно п. 8 ст. 2 Федерального закона от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», под редакцией средства массовой информации понимается организация, учреждение, предприятие либо гражданин, объединение граждан, осуществляющие производство и выпуск средства массовой информации. В соответствии с ч. 4 ст. 19 названного закона редакцией руководит главный редактор.
Таким образом, из приведенных положений закона «О средствах массовой информации», рассмотренных в системе с ч. 1 ст. 48 Гражданского кодекса РФ, следует, что редакция средства массовой информации может выступать в роли юридического лица или же не являться таковым. Подтверждением тому является и содержание п. 5 постановления
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» от 24 февраля 2005 г. № 3, согласно которому в случае, если редакция средства массовой информации не является юридическим лицом, к участию в деле в качестве ответчика может быть привлечен учредитель данного средства массовой информации. Аналогичное по своей сути положение содержится и в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами закона Российской Федерации “О средствах массовой информации”» от 15 июня 2010 г. № 16.
Более того, вышеназванные постановления Пленума Верховного Суда РФ дают основание утверждать, что ответчиком может являться редакция, не обладающая статусом юридического лица. То есть на соответствующего субъекта права решением суда могут быть возложены определенного рода обязанности. Однако должен и будет ли кто-то в таком случае нести уголовную ответственность за неисполнение соответствующего решения? Думается, вопрос остается открытым.
С одной стороны, с точки зрения охраны интересов правосудия и реализации его результатов не имеет большого значения то обстоятельство, не исполняется ли решение суда служащим (например, главным редактором) редакции-юридического лица или редакции, не обладающей признаками последнего.
С другой стороны, с учетом содержания диспозиции ст. 315 УК РФ и положений иных нормативно-правовых актов, привлечение к уголовной ответственности главного редактора средства массовой информации, не являющегося юридическим лицом, представляется невозможным: он не является служащим организации в том смысле, который вкладывается в данное понятие действующим законодательством.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. В настоящее время круг субъектов преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, не в полной мере адекватен целевому назначению данной нормы, поскольку в ряде случаев не позволяет привлечь к уголовной ответственности лиц, обязанных исполнить вступившее в законную силу постановление суда. Одним из вариантов решения этой про- блемы, возможно, могло бы стать такое изменение диспозиции ст. 315 УК РФ, которое позволило бы установить ответственность любого лица, на которое в силу закона, договора или иного основания возложена обязанность исполнить судебный акт.