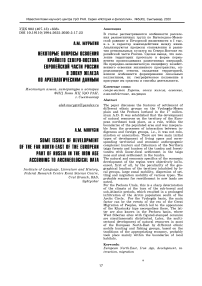Некоторые вопросы освоения крайнего Северо-Востока европейской части России в эпоху железа по археологическим данным
Автор: А.М. Мурыгин
Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc
Статья в выпуске: 5 (45), 2020 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/149129529
IDR: 149129529
Текст статьи Некоторые вопросы освоения крайнего Северо-Востока европейской части России в эпоху железа по археологическим данным
Археологические работы на северо-востоке Европы являются одними из первостепенных в решении ряда актуальных фундаментальных научных проблем финно-угорской (уральской) археологии эпохи железа.
Между тем, один из узловых вопросов древней истории региона, крайне важный для понимания становления современных народов Севера, до сих пор не нашел должного освещения в археологии Северного Приуралья. К нему относится исследование специфики освоения ресурсов природно-географической среды обитания на севере Евразии.
Изучение хозяйственного освоения пространств европейского Северо-Востока позволяет более детально рассмотреть динамику заселения этого региона России, миграционные процессы и взаимодействие коллективов.
Обсуждение материалов
На рубеже раннего железного века-средне-вековья освоение территории европейского Северо-Востока проходило при постоянном взаимодействии местных и пришлых групп населения. В бассейне Вычегды и Печоры появляются могильники под насыпями, широкое распространение получают поселения с гребенчатой, шнуровой и гребенчато-шнуровой керамикой - памятники шойнатыйского культурного типа [1]. Сформировавшись в восточной части бассейна Вычегды в результате смешения, в основном, местных позднегляденовских и привнесенных извне харинских (прикамских) этнокультурных традиций, они в таком двухкомпонентном виде впоследствии распространяются в таежное Припечорье.
В таежной полосе Припечорья заметно проявляют себя культурные традиции северно-тундрового и восточно-нижнеобского происхождения. Однако здесь, в отличие от бассейна Вычегды, где гляденовские коллективы (джуджыдъягская культура) существуют до V в. н. э., на Печоре гляденов-ские традиции практически полностью были трансформированы к III или IV в. н. э. [2]. Показателем изменений, произошедших на северо-восточной окраине гляденовской культурной общности, явилось сложение при участии одной из культур этой общности - пиджской, бичевницкого культурного типа с каннелированной глиняной посудой [1, 3]. Не исключено, что на сложение раннебичевницкого керамического комплекса оказали также влияние контакты с теми же северными группами западносибирского прасамодийского населения, которые приняли участие в формировании культуры предшествующего (гляденовского) времени на Печоре (пиджской). В то время, когда вычегодское поздне-гляденовское население испытывало существенные изменения в культуре из-за вхождения в его состав харинских групп, родственные коллективы пиджской археологической культуры таежного Припечорья начали контактировать с носителями кулайской культуры Зауралья. Наблюдается и обратный про- цесс: раннебичевницкие группы осваивают районы бассейна р. Вычегда, Большеземельской тундры и Северного Прикамья, достигая устья р. Чусовая (свыше 400 км южнее верховий р. Вычегда), восточного Приуралья.
Появление субарктических групп населения к югу от Полярного круга согласовывается с ухудшением климата на рубеже суббореального и субатлантического периодов (Л.Н. Андреичева, Н.Я. Кац, В.А. Климанов, М.И. Нейштадт, Л.Д. Ни -кифорова, Н.А. Хотинский, А.В. Шнитников и др.) [1, с. 170, 171]. На европейском Северо-Востоке происходит сдвиг ландшафтных зон в меридиональном направлении и расширение тундровой зоны - граница лесной растительности смещается на 150 км к югу от современной [4, с. 160]. Такое кардинальное изменение среды обитания является серьезной побудительной причиной для оттока части населения из Заполярья и освоения ими более благоприятных для проживания южных районов Печорской низменности.
Принципиальное значение для понимания особенностей взаимодействия на этом этапе имеет то, что проникновение в гляденовский ареал При-печорья и Привычегодья групп инородного населения происходило постепенно, в течение длительного времени (начиная, вероятно, с последней четв. I тыс. до н. э.) и в рамках примерно одного и того же, хотя и сокращающегося лесного ландшафта. Гляденовская керамика с каннелюрами на европейском Северо-Востоке появляется уже в конце 111-11 вв. до н. э. [2, с. 379], что опосредованно указывает на вероятное начало этого затяжного по времени процесса. Однако долгое время в предложенной культурно-исторической схеме и ее обосновании имелось одно слабое место. Арктический компонент бичевницкого культурного типа должен был быть старше самого типа. Это не согласовывалось с первоначальной датировкой, согласно которой арктический компонент был примерно синхронен бичевницким древностям. В последнее время появились данные, которые снимают это противоречие. Серьезным аргументом в пользу предложенной схемы культурогенеза бичевницкого населения таежного Припечорья стали результаты 14С-дати-рования. Они позволили выделить в средневековых керамических комплексах Большеземельской тундры материалы более раннего этапа развития субарктической культуры - раннего железного века [3]. Ранее достоверные доказательства наличия в европейских тундрах поселений местного населения того времени отсутствовали.
К началу втор. пол. I тыс. н. э. в регионе сложились новые археологические образования. Между Тиманом и Уралом продолжается развитие культуры типа Бичевник, ареал которой сократился до районов таежного Припечорья. Появляются поселения выходцев из Нижнего Приобья. К западу от Тимана на основе шойнатыйских формируются памятники ванвиздинской культуры. Основной территорией обитания ванвиздинского населения была средняя, в меньшей степени верхняя и нижняя Вычегда, откуда они распространились в бассейн средней и верхней Мезени [5]. Взаимодействие с нижнеобским и/или родственным ему печорским населением наложило свой отпечаток появлением на типичной ямочно-гребенчато-шнуровой вычегодско-мезенской ванвиздинской глиняной посуде узоров из различных фигурных штампов, мотива свисающих фестонов, отступающей техники орнаментации и утолщения края сосудов.
Не менее существенными для ванвиздин-ского населения являлись контакты с коллективами верхнего Прикамья. Через территорию ломоватов-ской культуры на среднюю Вычегду шло поступление вещей, относящихся к импорту из областей са-санидского Ирана и античного мира. Такие изделия найдены в поздней (безкурганной) группе погребений Веслянского I могильника, датируемых VII -нач. VIII в. н. э. В это же время на вычегодских и мезенских памятниках появляется керамика ломо-ватовско-ванвиздинского облика с многошнуровой орнаментацией тохтинского типа [6]. Наблюдается и обратное движение. Не позднее чем с конца VI в. н. э. север Прикамья становится областью хозяйственно-культурного освоения со стороны вычегодских групп ванвиздинского населения, а миграции небольших групп ванвиздинцев в верхнее Прикамье прослеживаются вплоть до конца существования ломоватовской культуры. В последней четверти I тыс. н. э. ванвиздинские группы стали фактором постоянного или периодического присутствия не только в северных районах Прикамья, где начинают контактировать с продвигающимися сюда же коллективами позднеломоватовского времени, но и в междуречье нижней Вычегды, Малой Северной Двины и Юга [5].
В то же время на территории Припечорья длительное взаимодействие различных по происхождению групп (начиная с эпохи энеолита и далее постоянно на протяжении последующих тысячелетий) привело к тому, что здесь на керамике местного населения сер. - втор. пол. I тыс. н. э. намного более явно, чем в вычегодско-мезенском регионе, наблюдается смешение признаков, имеющих различный генезис. По всей области расселения приуральских племен - между Уральскими горами, хребтом Пай-Хой и Тиманским кряжем - на местной раннесредневековой керамике ( позднебичевницкой в тайге и субарктической в тундре) выявлены элементы, выступающие в чистом виде или получившие преимущественное развитие в западносибирских культурах с гребенчато-фигурно-штамповой посудой, а в таежной полосе бассейна Печоры -также и в территориально близких приуральских и зауральских культурах с гребенчато-шнуровой орнаментацией керамики.
Одновременно из числа поселений и жертвенных мест Печорского Приуралья выделяются памятники с бесспорно нижнеобской керамической посудой, что является фактом непосредственного и постоянного присутствия обско-зауральских групп в южной части бассейна Печоры (от верховий до устья рек Подчерема, Щугора и Сопляса). Свидетельством освоения районов Припечорья коллективами зауральского круга культур является также инвентарь печорских «кладов», часть из которых относится к западносибирским памятникам (Усть-Соплясский) или, по крайней мере, заметно отличается от классических образцов «пермского» звериного стиля, они неоднородны и несут зауральские черты (К.И. Корепанов, В.А. Оборин, В.Н. Чернецов, А.В. Шмидт и др.). По всей территории Печорского Приуралья известны изделия зауральского облика («трехрогие» личины из д. Хабариха и с р. Сандибей-ю, поясные пряжки и культовые ложки со звериными головами в жертвенной позе; гравированные на серебряной бляхе изображения фигурок в трехконечных головных уборах с саблями в руках и др.).
Учитывая археологические источники предшествующих эпох [7], можно предположить, что «культурное пространство» Печорского Приуралья с глубокой древности было неоднородным. Эти северные территории осваивали разноэтничные группы. В Припечорье обитало население, в археологических культурах которого продолжительное время сохранялись признаки как самодийских, так и финно-угорских народностей. Постоянно подпитываемый, в основном, зауральскими инфильтрациями местный (угорский или самодийский) этнокультурный компонент являлся составной и неотъемлемой принадлежностью этого региона европейского Северо-Востока с эпохи раннего металла. Формирование археологических культур таежной полосы Припечорья проходило на фоне многовековой трансформации этнокультурных традиций финно-пермского компонента печорского ананьинско-гляденовского и более древнего населения, дальнейшего развития близкородственного нижнеобскому местного (бичевницкого) культурного комплекса, при одновременном прямом проникновении коллективов из западносибирского ареала обитания.
Меньше данных о контактах средневекового населения Ижмо-Печорского бассейна с заполярным населением. Пока известно не менее пяти поселений (Зыбун-нюр III, Усть-Айюва I, Брысвинское, Кыско, Ружникова) [1], небольшая доля керамики которых свидетельствует о проникновении коллективов субарктического региона северо-востока Европы в таежную зону Припечорья вплоть до 63° северной широты.
Взаимодействие раннесредневекового населения таежного Припечорья с финно-пермскими коллективами Прикамья было менее интенсивным и ограничивалось, скорее всего, отношениями, не затрагивающими основы культуры. Показательным примером непосредственных контактов печорского населения с прикамским являются находки поздне-бичевницкой керамики в районе Чусовского озера и на р. Вишера в Северном Прикамье. На печорских памятниках представлены другие категории находок, прототипы которым, в любом случае, были выработаны вне ареала обитания населения печорской тайги и попадали на север, видимо, путем торгово-обменных операций. К ним относится часть инвентаря жертвенных мест и кладов, находки на поселениях, аналогии которым уходят в прикамский регион Приуралья. Через булгарских посредников по Камско-Волжскому торговому пути в Припечорье попадали серебряные сасанидские монеты и брак-театы с оттисками дирхемов саманидской чеканки (Канинская, Уньинская пещеры), которые использовались североуральским населением в качестве украшений или культовых предметов.
На формирование культурных традиций населения заполярных областей северо-востока Европы также оказывали постоянное влияние археологические культуры западносибирского ареала, носители которых осваивали арктический широтный ход. Источники очерчивают круг археологических комплексов эпохи железа, предположительно соответствующих этно-территориальным локальным группам [8].
С момента первоначального поступления археологических материалов из циркумполярного Севера Печорского Приуралья и до середины 90-х гг. прошлого века, знания о древностях северных областей основывались, как правило, на сборах подъемного материала и редких раскопках в различных частях Мало- и Большеземельской тундр (Г.А. Чернов и др.). Однако за последние 30–35 лет были исследованы и частично или практически полностью введены в научный оборот как известные, так и новые археологические памятники, в том числе, эпохи железа (И.Б. Барышев, О.В. Овсянников., В.В. Питулько, А.М. Мурыгин, В.С. Стоколос, Л.П. Хлобыстин).
Несмотря на слабую и неравномерную археологическую изученность территории, увеличение объема источниковой базы позволило разграничить казавшийся более или менее однородным массив данных. Анализ, в основном, керамической посуды дал возможность выявить существование в эпоху железа в тундрах крайнего северо-востока Европы не менее двух локальных групп населения.
Первая из них известна по неукрепленным поселениям и жертвенным местам, расположенным преимущественно по берегам рек и озер более всего в континентальной части, меньше в прибрежнобереговой полосе Большеземельской тундры, а также на о-ве Вайгач. Материальные остатки этих памятников идентифицируют их как принадлежащих культуре субарктического типа [1]. В их числе - жертвенные места на р. Море-ю (Хэйбидя-Пэдара) и, возможно, на о-ве Вайгач (Болванский нос I, II), исследованные раскопками на различной площади поселения Море-ю II, Хутыюнкосе I, Кома-тывис I, Мыс Входной, Карпова Губа, Салиндейты 3, многочисленные разрушенные стоянки. Близкие аналогии находятся на ямальских памятниках эпохи железа.
На керамике втор. пол. I тыс. до н. э. - сер. I тыс. н. э. (типы Море-ю и Хутыюнкосе) прослеживаются следующие общие признаки: 1) утолщенная шейка; 2) ямочно-гребенчато-каннелированный стиль орнаментации; 3) овальные или с заовален-ными концами зубчатые оттиски; 4) многозональ-ность в украшении шейки; 5) использование в композиции удвоенного или окаймляющего зигзага; 6) разделение узоров на шейке на две зоны; 7) нанесение узоров в стыке каннелюр, между каннелюрами и в каннелюре; 8) общий характер узоров, состоящих из наклонных, вертикальных оттисков, гори- зонтальных линий, зигзага.
Более поздняя керамика ( тип Коматывис; втор. пол. I н. э. - рубеж I-II тыс. н. э.), продолжающая традиции предшествующей, характеризуется следующими признаками: 1) утолщенная шейка; 2) кроме чашевидных, в числе реконструированных -горшковидные сосуды с уплощенным и митровидные с округло-приостренным дном, есть сосуды на поддонах; 3) внутренний участок шейки орнаментирован; 4) специфическим узором на шейке являются два ряда многозубых печатных или сочетание многозубых печатных и удлиненно-гладких вдавле-ний; 5) для орнаментации плечиков характерны горизонтальные линии гребенки, зубчатый зигзаг, арочно-ногтевой гладкий узор, округлые и сегментовидные гладкие вдавления, кругло-крестовый штамп, треугольные фестоны в конце орнаментальной зоны. На отдельных сосудах прослежены каннелюры, оттиски отступающего зубчатого (узкого прямого, широкого овального или подпрямоугольного) и фигурного штампа.
Вторая группа тяготела к долине Заполярной Печоры. Она представлена памятниками новоборского типа втор. пол. I - перв. пол. II тыс. н. э. [9-11]. К ним относятся: городища Новый Бор I-IV (XII-XIII вв. н. э.), Ортинское (VI - нач. XI вв. н. э.), Кобылиха (втор. пол. I - перв. пол. II тыс. н. э.), Гнилка городище (VI-X вв. н. э.) и святилище (VIXIII вв. н. э.), поселение Денисовский Шар (XII-XIII вв. н.э), Коткино I (перв. четв. II тыс. н. э.) и Югорская сопка (V-VII вв. н. э.). Аналогичные комплексы пока не известны в сопредельных районах таежной и тундровой зон европейского Северо-Востока.
Они образуют нижнепечорский ареал средневековых памятников с разновременной, но практически однотипной керамикой, наличием явных следов металлообработки и металлургии, в том числе железоделательного производства, единичными находками древнерусской керамики в поздних материалах. Для них характерно расположение на естественно труднодоступных участках берега (Югорская сопка) наличие укреплений в виде валов и рвов (Ортино, Гнилка, Кобылиха, возможно, Новый Бор I, II, IV) или обозначение жилой площадки неглубокой канавой и внутренней насыпью (Новый Бор III). К признакам основной части керамического комплекса относятся сосуды с равноутолщенной прямой или отогнутой шейкой, наличием сосудов горшковидной формы и поддонов, грубое заглаживание стенок в виде глубоких широких расчесов, в орнаменте - вертикальные фестоны и оттиски фигурных штампов, каннелюры, многозональность в украшении венчика, тщательность нанесения узоров.
На основании вышеизложенного и известного размещения памятников не будет ошибочным предположить, что на европейском Северо-Востоке в эпоху железа преобладали два основных первоначальных типа освоения жизненного пространства и соответствующих им территориально-хозяйственных антропогенных комплексов: охотники и рыболовы северных таежных лесов, охотники тундры и лесотундры с линейно-очаговым расселением в таежной зоне и площадным в тундре. При этом достаточно очевидна необходимость применения дифференцированного подхода. В зависимости от районов проживания и этапов развития местных культур менялись как уровень оседлости, так и соотношение присваивающих и производящих элементов в структуре их хозяйствования и, соответственно, степень овладения территорией.
Также можно полагать, что основной формой хозяйственного освоения территории являлись перманентно происходящие разнотипные миграции. Они оказали серьезное влияние на особенности становления и развития локальных культур раннесредневекового таежного населения в бассейнах рек Вычегды и Печоры. Следствием постоянных миграционных подвижек в I тыс. н. э. явились радикальные изменения в этнокультурной обстановке на северо-востоке Европы. Одним из результатов глубоких перемен стало выраженное своеобразие раннесредневековых культур, которые можно определять, как синкретические. Они представляли единство неоднородных исходных компонентов, что особенно ярко проявилось в материальной культуре населения таежного Припечорья [12]. Благодаря своеобразию расположения территории, её значительная часть оказалась зоной постоянных и длительных контактов групп угорского, самодийского и пермского населения. В числе предпосылок невысокого уровня культурной дифференциации социальных групп следует рассматривать и миграционную подвижность различного вида, а для печорского населения еще и дисперсный тип расселения и длительные сезонные широтные и меридиональные перекочевки. Этому способствовала также специфика географического положения обитаемого пространства (выраженная зональность растительного покрова, перекрещивание двух зоогеографических границ, широтной - тундра-тайга и долготной - Европа-Сибирь, значительные климатические изменения и большая зональная мобильность на протяжении многих тысячелетий, сравнительно позднее формирование современной границы между тундрой и лесом).
Что касается освоения северной окраины Печорской низменности, включающей тундровую зону и примыкающие районы крайне северной тайги, то этот процесс также происходил под существенным влиянием с территорий, расположенных к востоку от Уральского хребта.
Древние аборигенные коллективы, археологически представленные памятниками субарктического типа, по крайней мере с эпохи раннего железного века, были приспособлены к обитанию не только большей частью в континентальных районах Большеземельской и Ямальской тундр, но и на их прибрежно-береговых участках и островах (о-в Вай-гач). Оставившее археологические памятники новоборского типа население, археологически выявляющееся не ранее середины I тыс. н. э., осело в лесотундровом ландшафте широкой долины нижней Печоры. Способ деятельности этих коллективов определялся в значительной степени, видимо, условиями проживания вблизи главной водной магистрали Северного Приуралья, на пограничье с ти- пичной тундрой. В число основных дифференцирующих признаков, выявленных севернее Полярного круга этнокультурных образований эпохи железа, входили особенности естественно-географической среды обитания, природно-ресурсного потенциала и соответствующего жизненного уклада, определявшие специфику их проживания в условиях Заполярья.
Пока отсутствуют доказательства прямой связи континентально-тундровых и нижнепечорских археологических памятников эпохи железа с какой-либо из известных западносибирских культур. С другой стороны, большеземельская керамическая посуда демонстрирует общее сходство с угорским, самодийским или угро-самодийским кругом обско-печорских археологических культур, что указывает на участие последних в формировании коллективов Большеземельского севера. Однако на данном этапе исследования мы не можем ни отрицать, ни утверждать того, что западносибирская «вуаль» на памятниках эпохи железа припечорских тундр является результатом миграции в представительных количествах, разовым проникновением или результатом многовековой инфильтрации в автохтонную среду, слиянием с предшествующими поколениями и адаптацией к специфичной среде обитания в высоких широтах. Между тем, все более наглядно археологическими работами последних лет в Арктической зоне северо-востока Европы проявляется обособленная этно-территориальная группа средневекового населения, памятники археологии которой дают сейчас возможность более предметно подойти к проблеме соотнесения с летописной «пе-черой» конкретных объектов древней материальной культуры. Их дальнейшие судьбы предопределило, видимо, обитание в пограничной зоне колонизационного контакта или линии «арктического фронтира» между осваивавшим в перв. пол. II тыс. н. э. Европейский Север древнерусским населением и кочевыми ненецкими группами.
Выводы
Таким образом, освоение природных ресурсов на европейском Северо-Востоке в I тыс. н. э. происходило, как правило, в границах заселенного пространства и было неотделимо от одновременно происходящих процессов взаимодействия местных и пришлых групп населения, т. е. не являлось колонизацией или присоединением. Реже наблюдается использование в качестве охотничьих угодий обезлюдивших или незаселенных районов (верхняя, средняя Мезень, верхнее Прикамье).
В целом освоение крайнего Северо-Востока европейской части России в эпоху железа можно охарактеризовать как «комбинированное». В таежной и частично лесотундровой зонах система расселения была преимущественно вдоль берегов рек с концентрацией мест обитания в археологических микрорайонах (АМР), изобилующих рыбой, птицей, зверями, грибами, ягодой и отличающихся удобством для устройства сезонных или постоянных стоянок и поселений. Последние можно определить как участок местности, в пределах которого совокуп- ность благоприятных факторов естественной среды обитания была наиболее достаточна для устойчивого существования коллективов в данном месте на определенном отрезке времени. В континеталь-ной тундре Северного Приуралья в используемые угодья кочевое население включало не только берега рек и озер, но и переувлажненные междуречья и морское побережье. Как в таежной, так и в тундровой зоне, население пользовалось естественными ресурсами, жило за счет окружающего природного ландшафта.
Причины для расселения на новые земли на этапе становления культур раннего средневековья, сопровождавшегося культурным дрейфом в иноэтничную среду, были различны. Для Печорского Приуралья ключевым моментом являлось резкое ухудшение климата на рубеже суббореального и субатлантического периодов, следствием чего явилась продолжительная инфильтрация арктического населения к югу от Полярного круга. Для бассейна Вычегды главным фактором следует считать исторически обусловленные события эпохи Великого переселения народов, приведшие к появлению здесь некрополей с надмогильными сооружениями харинского типа. Последние известны также и в бассейне Печоры, где одновременно получают распространение западносибирские памятники с фигурно-штамповой керамикой. В дальнейшем многоотраслевое освоение природных ресурсов большей части европейского Северо-Востока разноэтничными мобильными охотничье-рыболов-ческими группами, основанное на традициях присваивающей экономики, происходило, видимо, преимущественно в границах локальных территорий обитания.
Проблема хозяйственного освоения крайнего северо-востока Европы в эпоху железа представляется достаточно важной и актуальной для создания комплексной картины расселения и взаимодействия разноэтничных коллективов на пространствах циркумполярной зоны Северного Приуралья и изучения динамических процессов прошлого в культуре финно-угорских и самодийских коллективов.
Настоящая работа написана на анализе сравнительно небольшого объема археологических источников и вряд ли в полной мере отвечает на поставленные в ней вопросы. Это свидетельствует о необходимости продолжения исследований в данном направлении.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Республики Коми в рамках научного проекта № 20-49-110002.
The reported study was funded by RFBR and region’s Komi Republic, project number № 20-49