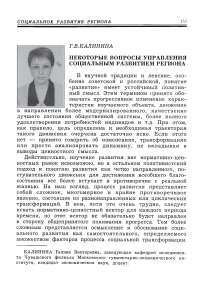Некоторые вопросы управления социальным развитием региона
Автор: Калинина Галина Викторовна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Социальное развитие региона
Статья в выпуске: 1 (54), 2006 года.
Бесплатный доступ
В статье дано определение управления социальным развитием регионов. Предложены методы определения эффективности территориального социального развития на основе экономического моделирования на основе многокритериального ранжирования объектов, согласования системы компонентов общественного развития в рамках «полного» и «кризисного» индексов. .
Короткий адрес: https://sciup.org/147222208
IDR: 147222208
Текст краткого сообщения Некоторые вопросы управления социальным развитием региона
В научной традиции и лексике, особенно советской и российской, понятие «развитие» имеет устойчивый позитивный смысл. Этим термином принято обозначать прогрессивное изменение характеристик изучаемого объекта, движение более модернизированного, качественно лучшего состояния общественной системы, более полного удовлетворения потребностей индивидов и т.д. При этом, как правило, цель определена и необходимая траектория такого движения очерчена достаточно ясно. Если этого нет — принято говорить об изменениях, трансформациях или просто анализировать динамику, не вкладывая в выводы ценностного смысла.
Действительно, изучение развития вне нормативно-ценностных рамок невозможно, но в остальном позитивистский подход к понятию развития как четко направленного, поступательного движения для достижения всеобщего благосостояния все более вступает в противоречие с реальной жизнью. На наш взгляд, процесс развития представляет собой сложное, многомерное и крайне противоречивое явление, состоящее из разнонаправленных или циклических трансформаций. В нем, хотя это очень трудно, следует искать нормативно-ценностный вектор для каждого периода времени, но этот вектор не обязательно будет направлен в сторону общепринятого понимания прогресса. Тем более сложным представляется осмысление и обоснование социального развития как самостоятельного, определяемого множеством факторов процесса социальной трансформации.
КАЛИНИНА Галина Викторовна, заведующая кафедрой менеджмента Чувашского филиала Московского гуманитарно-экономического института, кандидат экономических наук, доцент.
В отечественной экономической науке понимание социального развития как самостоятельного элемента эволюции социально-экономической системы любого уровня укоренилось достаточно прочно. В макроэкономических исследованиях социальное развитие относится к одному из основных тиЩов роста наряду с технологическим и экономическим.
Различные аспекты социального развития обсуждаются многими представителями научной мысли. Общетеоретические и методические основы социального развития представлены в трудах крупнейших зарубежных ученых: П.Бу-агильбера, Дж.Кларка, А.Курно, К.Маркса, А.Пигу, А.Тюр-го, С.Сисмонди, А.Смита, Ж.Сэя. Кроме того, необходимо отметить конкретные разработки А.Бергсона, Дж.Винера, В.Парето, Дж.Хикса и др.
В отечественной экономической науке вопросы социального развития исследовали С.Айвазян, В.Бобков, Н.Зубаре-вич, В.Майер, П.Мстиславский, В.Райцин, Н.Римашевская, Р.Рывкина и др. На региональном уровне этими проблемами занимаются А.Д.Арзамасцев, Н.С.Катков, Л.П.Кураков, Т.В.Погодина, А.П.Суворова, Е.И.Царегородцев, Г.Е.Яковлев и др.
В то же время недостаточно широко проводятся специальные исследования, посвященные комплексной оценке социального развития. Вне рамок традиционного анализа остаются такие важные аспекты проблемы, как востребованность точного определения места и роли социального развития в рыночной системе национальной экономики; формирование направлений совершенствования управления социальным развитием региона; разработка механизма реализации имеющегося социального потенциала и его влияния на экономическое развитие территории.
При решении различных исследовательских и практических задач выясняется, что понятие «социальное развитие» не имеет общепринятого определения, и разные специалисты, применяя его, используют широкий спектр синонимичных и близких по значению терминов: «качество жизни», «индивидуальное и общественное благосостояние», «базовые нужды», «уровень жизни», «стандарт жизни», «совокупность характеристик потребления» и т.д. Принципиальное отличие современной концепции социального развития заключается в расширении числа компонентов, обеспечивающих благосостояние не только в экономическом аспекте. С современных позиций социального развития благосостояние понимается как способность индивида использовать ресурсы для управления собственной жизнью или возможность людей вести такую жизнь, которую они считают достойной. Причем часто людям не нужен высокий доход для обеспечения достойного уровня жизни. Специфика современного периода развития российского общества усиливает актуальность оценки качества жизни на субрегиональном уровне.
Представляется, что под социальным развитием региона следует понимать определенный уровень развития социальной и экономической сфер территории с наименьшим ущербом для природных ресурсов и наибольшим уровнем удовлетворения коллективных потребностей поселения и интересов государства. Анализ накопленного теоретического опыта позволяет выбрать концепцию качества жизни как приоритетную в изучении социального развития, поскольку она отличается выраженным целеполаганием, четкой структурой, а также в той или иной степени включает в себя все основные содержательные понятия: инфраструктуру, условия, образ, уровень жизни, качество населения (рис. 1). На наш взгляд, только в рамках концепции качества жизни равнозначимые и невзаимозаменяемые компоненты социального развития могут подвергаться отбору по приоритетности в целях реализации конкретных исследовательских задач.

Рис. 1. Социальное развитие, его составляющие и взаимосвязи
Управление социальным развитием региона — это процесс разработки, принятия и реализации социальной политики, опирающейся на собственный ресурсный потенциал, ориентирующейся на удовлетворение потребностей населения, адекватно учитывающей воздействие окружа-кадей среды, что позволяет достичь главной цели — повышения качества жизни населения. На социальное развитие одновременно оказывает управленческое воздействие (прямое и косвенное) система субъектов управления, имеющих различные интересы. В социальном управлении объект одновременно выступает и его субъектом, т.к. и в том, и в другом случае речь идет о людях и составляемых ими социальных общностях. Модели управления социальным развитием макро- и микроуровней могут существенно отличаться, поскольку формируются на основе сложившихся в них типов организационной культуры и соответствующих тенденций исторического развития. В тех случаях, когда местное сообщество не имеет технической и организационной возможности осуществлять управление непосредственно, оно передает часть функций и полномочий от своего имени органам местного самоуправления. Тогда последние выступают в роли субъекта.
Именно на местном уровне должны быть сосредоточены основная социальная ответственность государства перед населением и основные государственные расходы на социальные нужды, поскольку на этом уровне особо специфицируются потребности личности (в последней редакции проекта ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ» местный уровень разграничен между городскими и сельскими поселениями).
Эффективность управления социальным развитием предлагается оценивать через категорию «качество жизни населения», которая рассматривается в синтетическом, комплексном смысле, синтезирует в себе более частные аспекты жизнедеятельности общества на субрегиональном уровне и тем самым позволяет специфицировать существующие подходы к ее измерению под конкретные задачи региона. Представляется, что располагая формализованной методикой ее измерения, построенной на базе соответствующих синтетических показателей и более частных
Вопросы управления социальным развитием региона 161 свойств, появляется возможность определения стратегических целей в развитии особенностей региональной ментальности и системы ценностей, конструирования целевых критерий общественного благосостояния. Возможно, эти модели будут несовершенными и породят больше вопросов и критически^ замечаний, чем ответов и рекомендаций, но последовательное получение все более адекватных моделей представляет несомненный интерес, улучшает понимание проблемы и дает надежду на получение достаточно «плотного» приближения к реальности.
Интегральный индикатор качества жизни населения территории должен представлять собой определенного вида обобщение оценок более частных свойств и критериев этого понятия и предназначаться для проведения сравнительного временного и пространственного анализа. Обоснование отбора частных критериев имеет смысл производить на основании структурированной системы статистических показателей, сформированных в Госкомстате РФ для уменьшения разночтений и неопределенностей, возникающих из-за ненадежности и недостаточной представительности первичной информации.
В основу предлагаемой нами методики заложены эконометрическое моделирование на основе методов многокритериального ранжирования объектов, а также «увязка» системы компонентов социального развития в «полный» и «кризисный» индексы для различных целей дальнейшего использования. В процессе реализации методики на примере Чувашской Республики, по статистическим данным 2004 г., получены и обоснованы два варианта оценки качества жизни через «полный» индекс, охватывающий 22 компонента, и «кризисный» индекс качества жизни с 12 компонентами: младенческая смертность, коэффициент смертности от болезней органов дыхания, органов пищеварения, показатель разводимости, средний размер вклада в учреждениях Чувашского отделения Сбербанка России, обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями на 1 тыс. чел. населения, благоустройство жилищного фонда газом, плотность дорог общего пользования с твердым покрытием, численность пострадавших при несчастных случаях на производстве со смертельным исходом или утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих, число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. чел. населения, выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников, образование токсичных отходов.
«Полный» индекс помимо перечисленных двенадцати включает в себя процент мужского населения; коэффициент смертности от новообразований (число умерших на 10 тыс. чел. населения); объем промышленной продукции (в фактически действующих ценах) на душу населения (руб.); число предприятий почтовой связи (на 10 тыс. чел. населения на конец года); уровень безработицы (%); средний размер начисленных месячных пенсий пенсионеров, стоящих на учете в органах социальной защиты населения (тыс. руб.); смертность от отравления алкоголем; уровень преступности; коэффициент миграционного прироста/убы-ли в расчете на 10 тыс. чел. населения; инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов (тыс. руб.).
«Кризисный» индекс позволяет оценить различия в важнейших, наиболее проблемных аспектах жизнедеятельности и рекомендуется к использованию для мониторинга социальной ситуации в республике. «Полный» индекс максимально охватывает все компоненты, формирующие социальный потенциал территории, и может рассматриваться в качестве критерия для оценки приемлемости «кризисного» индикатора.
Полученные формулы агрегирования основаны на допущении равной приоритетности компонентов качества жизни населения. Расчет индексов производился через нормирование по методу линейного масштабирования. Использование разных индикаторов в значительной степени определяет результат оценки. Как и ожидалось, итоговое распределение районов различается, но не существенно. На графике (рис. 2) видно, что полиноминальные кривые, построенные по полному и кризисному индексам, практически повторяют друг друга (об этом свидетельствуют амплитуды кривых).
Теснота связи «кризисного» и «полного» индексов по районам Чувашской Республики составляет 0,89, т.е. силь-
|
1 |
ПТ |
04 О ОО О + DO 04 О + X ос о X о ^ = 1 ^ о X ОО II О м о об о о LU 04 + X О Ш II Z О > |
OI 04 ГО О 4- X Т О 4- X т о X о • 'О 4- Si X о Z 11 о «: О X о UJ 4- X о LU т II о с. X |
И 1 И И И и И 1 и и и и У * У У •< ним У и них У и у и У н и и X И II и х У и У и У и х |
м з н и d If ^ SSdRSMOOS^ 1 3l/R 3 0 nd R JM из m n н p я я 3 m X rj do pm мзчиияпП xodRHdXg i x o d в и d д о к ^ ° xnaadHiBH Ф и О « Ь X О СУ V о о о s о зчггоиозмоя су м СО X X X ^ О сч О , X X M3HH33dg|^ « СМ QJ CM CQ X X । , о х ^
OHMirdamXfn И о ° ° =S ’S X »-<*-■ М3 ЯО Iff. ом ° £ О X в X СУ _ ^ ^ мзхиьчку 2 2 S 5 о о о м 3d 1ч 1в к V X X X X X со X X ^ X ^ ^ О CU о о 3H3^dROH3Rd^ К У С С и1 1 м n ad о ц ^1^1| з н м in d X н э ГП X 3 я 0 М И If у МЗЯ0МИ1НК OMRldhOHORd^ |
|||
|
X |
С |
о о |
о о |
с |
о с |
— с |
Рис. 2. Кривые качества жизни населения районов Чувашской Республики на основе «полного» и «кризисного» индексов
ная. Показательно, что «полный» индекс имеет существенную корреляционную связь с десятью частными индикаторами качества жизни, а также заметную связь с еще пятью показателями (коэффициенты корреляции от 0,25 до 0,3), т.е. в общей сложности позволяет описать уравнение регрессии 70 % таких показателей. «Кризисный» индекс удовлетворяет также в 70 % случаев и позволяет получить уравнения регрессии для 15 частных характеристик качества жизни населения.
В результате можно сделать вывод о том, что в рамках 22 факторов, положенных в основу расчета полного индекса, получено наилучшее обобщение показателей до 12, сохранившее основные свойства генеральной совокупности. Полученные распределения на основе «полного» и «кризисного» индексов качества жизни умеренно дифференцированы. Первая десятка районов практически совпадает в обоих вариантах. Таким образом, очевидно, лучшими с точки зрения двух подходов являются Шемуршинский, Ян-тиковский, Красноармейский, Яльчикский, Комсомольский и Моргаушский районы. В группу районов с низкими показателями качества жизни вошли Канашский, Марпосад-ский, Цивильский, Вурнарский, Шумерлинский, Алатыр-ский и Ибресинский.
Заметны существенные отклонения при оценке по «кризисному» индексу для пяти случаев — по Шемуршинско-му, Шумерлинскому, Батыревскому, Урмарскому и Ци-вильскому районам. Причем по первым трем районам позиция в рейтинге улучшается, а по Урмарскому и Цивильскому — ухудшается. Это означает, что в «кризисном» индексе для данных районов остался либо более сильный, либо более слабый набор показателей с точки зрения оценки качества жизни.
Представляется, что выбранный объект исследования во всем своем многообразии в значительной степени отождествляется с его модельным образом — социальной позицией. В дальнейшем следует уровень социального развития рассматривать в сопоставлении с экономическим потенциалом районов. Динамическое моделирование развития экономических систем различного уровня с отражением реальных причинно-следственных связей между экономиче- сними показателями может проводиться на основе использования кластерного анализа, наиболее ярко отражающего черты многомерного анализа и классификации объектов, что позволяет решить задачу рациональной группировки районов республики по уровню экономического потенциала.
Перспективы социального развития в значительной степени должны быть связаны с эффективностью его бюджетного финансирования, а также с разработкой целевых комплексных программ развития территории, способствующих адекватному социальному развитию.
В качестве общих предпосылок социального развития следует рассматривать экономический рост, темпы которого предопределяют реальные возможности оздоровления системы региональных и местных финансов, а также четкое разграничение полномочий и ответственности между уровнями бюджетной системы. В то же время от своевременности и эффективности решения задач социальной направленности во многом зависят пути и темпы дальнейших преобразований в Российской Федерации.