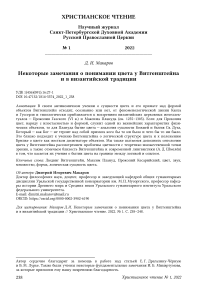Некоторые замечания о понимании цвета у Витгенштейна и в византийской традиции
Автор: Макаров Дмитрий Игоревич Макаров
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 1 (100), 2022 года.
Бесплатный доступ
В своем антиномичном учении о сущности цвета и его примате над формой объектов Витгенштейн отходит, осознанно или нет, от феноменологической линии Канта и Гуссерля и типологически приближается к воззрениям византийских церковных интеллектуалов - Прокопия Газского (VI в.) и Максима Плануда (ок. 1255-1305). Если для Прокопия цвет, наряду с ипостасностью и формой, служит одной из важнейших характеристик физических объектов, то для Плануда бытие цвета - аналогия сущности Божией и бытия Св. Духа, Который - как Бог - не терпит над собой примата кого бы то ни было и чего бы то ни было. Это близко подходит к учению Витгенштейна о логической структуре цвета и к положению Крипке о цвете как жестком десигнаторе объектов. Мы также пытаемся дополнить онтологию цвета у Витгенштейна рассмотрением проблемы цветности с теоретико-множественной точки зрения, а также отмечаем близость Витгенштейна и современной лингвистики (А. Д. Шмелёв) в том, что касается их учения о бытии цвета на границе между логикой и опытом.
Людвиг витгенштейн, максим плануд, прокопий кесарийский, цвет, звук, множество, форма, логическая сущность цвета
Короткий адрес: https://sciup.org/140290620
IDR: 140290620 | УДК: 1(436)(091):16:27-1 | DOI: 10.47132/1814-5574_2022_1_238
Текст научной статьи Некоторые замечания о понимании цвета у Витгенштейна и в византийской традиции
Говоря об учении Людвига Витгенштейна о цвете, Е. Г. Драгалина-Чёрная отмечает: «Языковые игры с цветовыми понятиями не ограничиваются перцептивной сферой, но задействуют память, воображение, культурные коды» [Драгалина-Чёрная, 2020, 151]. В той попытке языковой игры, которая представлена в настоящей статье, будет обращено внимание на медиевальные предыстоки некоторых положений Витгенштейна — сюжет, явно обойденный вниманием в историографии, — раз уж «языковая игра с цветовыми понятиями не может вестись, подобно игре в шахматы, по сугубо конвенциональным правилам» [Драгалина-Чёрная, 2020, 154]. Конвенциональна здесь игра как таковая — разумеется, в модусе ludus serius.
Значение византийской мысли для решения современных проблем еще не оценено в должной мере2. Высказанные двумя авторами (Прокопием Газским, VI в., и особенно Максимом Планудом, XIII в.) мысли о цвете в какой-то мере предвосхищают ту линию мысли, что мы встречаем в ХХ в. у Витгенштейна, позволяя поставить вопрос о ее не столько античных (это отдельная большая тема), сколько именно о греко-византийских предыстоках. В каком-то смысле можно утверждать, что в творчестве Витгенштейна, как в магическом кристалле, оказались сфокусированы пересечения самых разных предметно-логических полей философской традиции, включая онтологию духовного мира. На такого рода аналогии из византийской мысли (явно неизвестной автору и тем более примечательной в данном контексте) нам бы и хотелось указать3.
Людвиг Витгенштейн, Иммануил Кант и Максим Плануд: возврат к cредневековой метафизике?
Как известно, Иммануил Кант в «Критике чистого разума» (1781; 2-я редакция — 1787) называет в качестве важнейших характеристик наглядного представления тел протяжение и форму, тогда как цвет в этот список не входит: «…если я отвлекаю от представления тела всё, что рассудок мыслит о нем, как-то: субстанцию, силу, делимость (Teilbarkeit) и т. п., также всё, что принадлежит в нем к ощущению, как-то: непроницаемость (Undurchdringlichkeit), твердость, цвет (Farbe) и т. п., то у меня остается от этого эмпирического наглядного представления еще нечто, именно протяжение (Ausdehnung) и форма (Gestalt) (курсив автора. — Д. М.)»4. А может быть, все дело в том, что «Не существует такой вещи, как единственное (курсив автора. — Д. М.) чистое понятие цвета»5?
Похоже, впрочем, что Витгенштейн вступает в полемику с линией Канта и Гуссерля. Мы прямо читаем об этом в «Заметках о цвете»: «Хотя нет такой вещи, как феноменология, однако есть феноменологические проблемы» [Витгенштейн, 2020, 164. III, 248]. Вопреки Канту, цвет для Витгенштейна важнее формы, о чем австрийский и британский мыслитель прямо и говорит (см. далее). А вот критической реакции на понятие протяженности мы у него в явном виде не встретим. (Быть может, здесь уместно вспомнить, что и средневековые авторы признавали протяженность, наряду с цветом, одной из важнейших характеристик тварного сущего.)
Настала пора привести наш первый пример. По словам Прокопия Газского, выдающегося мыслителя и экзегета Библии первой половины VI в., жившего в Палестине, ипостась — понятие универсальное: ипостасью, наряду с цветом и протяженностью, обладают все физические тела [ Procopii Gazaei Commentarius in Genesin… [ad Gen. 1: 14]. PG 87/1. Col. 85A]6. Как же нужно мыслить понятие цвета, каким линиям и траекториям логической и онтологической традиции следовать при его анализе?
И вот тут нам на помощь придет Максим Плануд (ок. 1255–1305; PLP 23308), монах-богослов, полемист, эпистолограф, переводчик блж. Августина, Фомы Аквинского и ряда других латинских богословских текстов на византийский (среднегреческий) язык. Плануд приводит для цвета самую возвышенную аналогию, какую только может подобрать к тому или иному сущему теолог, — аналогию Св. Духа:
Дело в том, что, как цвет состоит не из сущности и очертаний (τοῦ σχήματος), но из одной лишь сущности , в которой и заключаются очертания и цвет, так и о Духе Святом говорится, что Он исходит не от (ἐκ) Отца и Сына, но только от Отца (курсив наш. — Д. М. ) [Sapientissimi cardinalis… Syllogismus quartus. PG 161. Col. 317А].
Действительно, получается почти по Витгенштейну: чистый цвет как таковой находится не в объектах7, но… в некоем трансцендентальном пространстве. Цвета — не вещи [Витгенштейн, 2020, 162. III, 127]: явление цвета более метафизично. А потому, как нам кажется, справедливым будет и следующее утверждение: высказывания о цвете сопоставимы с утверждениями о Боге (на что и обратил внимание Максим Плануд).
Бытие цвета похоже на сущность Божию, потому что наличие в том или ином месте (той или иной субстанции) цвета — отношение внутреннее (а не эмпирическое) и потому сверхвременное. О том же Витгенштейн говорит и в «Заметках об основаниях математики»8 (около 1937–1938), § § 103–104:
103. Когда мы говорим: «Это предложение следует вот из того», то глагол «следовать» и здесь употребляется во вневременном значении (ist… unzeitlich gebraucht; курсив автора. — Д. М.)… 104. Сравним с этим [следующее высказывание]: «Белый ярче чёрного». Это выражение также обладает вневременным значением (ist unzeitlich), и в нем утверждается наличие (das Bestehen) некоего внутреннего отношения (курсив автора. — Д. М.)9.
Отношения цвета здесь, как и у Плануда, относятся не только к сфере явленно-го10 — но именно к сфере внутреннего, эйдетического уровня реальности. Именно в этом смысле воззрения Плануда служат, на наш взгляд, достаточно удачной типологической аналогией учению «среднего» Витгенштейна.
В этом плане логика цвета, действительно, выступает моделью Бога в Его вневре-менности (что почувствовали Прокопий Газский и Максим Плануд); в свою очередь, Кант и Гуссерль, отбрасывавшие идею Бога на периферию своих философских построений (Кант — прежде всего в «Критике чистого разума», а Гуссерль — системно), надо полагать, именно поэтому в приведенных нами фрагментах и не говорили ничего о цвете, считая его чем-то вроде такой же вещи в себе, по неопределенности и непостижимости сопоставимой с Богом. Хотя между ними и Витгенштейном наличествует и сходство, приближающее мысль Витгенштейна все-таки к линии Канта, а не византийских мудрецов, — ведь, по Витгенштейну, «неясно априори, каковы простые (курсив автора. — Д. М. ) понятия цвета» [Витгенштейн, 2020, 160. III, 69]. Если мыслить сущность Божию по-томистски, как слитую с Его свойствами11, то именно к такому результату, как неопределенность этих свойств самих по себе, мы и придем. Мне думается, что Е. Г. Драгалина-Чёрная имела в виду и это обстоятельство тоже, когда обобщенно ссылалась на традицию схоластики (разумеется — западной) в подтверждение своей мысли о том, что сущность цвета, по Витгенштейну, трансцендентальна и субстанциальна (в смысле латинского substantia), а не предикаментальна [Драгалина-Чёрная, 2014, 91].
Поразительно, но даже мысль об отсутствии у цвета внешних для него очертаний находит параллель у позднего Витгенштейна. Витгенштейн советует:
Спросите себя: какой формы должен быть образчик зеленого цвета? Прямоугольной? Или он уже будет тогда образцом зеленого прямоугольника (курсив наш. — Д. М. )? — Так что же, он должен быть «неправильной» формы? Но что нам тогда помешает рассматривать — то есть использовать — его лишь как образец неправильности формы? [Wittgenstein, 1986, 35e. I, 73]12.
Во всяком случае, цвет какой-либо поверхности — не чистое понятие цвета [Витгенштейн, 2020, 159. III, 56]; цвет может быть и у глубины. А, быть может, важнее цвет в себе? Ведь цвет — в опыте нашего реального мира — не связан с формой объектов (ср.: [Витгенштейн, 2020, 163. III, 155]). Этим и объясняется (по крайней мере, отчасти) ЛФТ 2.0232.
Запомним это положение обоих мыслителей: цвет не терпит примата формы и не дает форме подавить себя. — Цвет, вопреки форме, есть сущность. В этом смысле цвет и вправду оказывается весьма удачной аналогией для Св. Духа, Который, как Лицо Божие, так же не терпит над Собой примата чего-то (или кого-то) инородного Себе: в самом деле, кто или что может стоять над Богом (или «за» Ним)?
Итак, цвет — это особая сущность. И эта сущность цвета идеальна (по Максиму Плануду и Людвигу Витгенштейну), как невещественна и эссенция музыки, по Плотину. Именно поэтому, надо полагать, цвет и был избран византийским мыслителем в качестве аналогии. Это сущность — и не частная (добавим от себя13). Для Витгенштейна важно, как подметил Глен Эриксон, что цвета не относятся к некоему условному Цвету как виды — к роду (см.: [Erickson, 1991, 118]), т. е. порфириевское древо категорий здесь не действует. Ввиду краткости текста Максима Плануда не представляется возможным установить (на основе одного данного источника), справедливо ли это наблюдение в его случае, или нет. Как бы то ни было, согласно автору «Заметок о цвете», каждый цвет — вполне самостоятельная сущность. Как отмечает Эдвард Брэниган, «Звук воплощен [в некоем материальном субстрате], тогда как цвет остается развоплощенным и изолированным (detached)» [Branigan, 2015, 5]. И это возвышает его, на взгляд Максима Плануда, над тварным миром и в какой-то степени приближает к Богу.
Цвета различаются сообразно с логикой наших понятий о цвете, с теми из наших языковых игр, которые вовлекают в себя цвет. Конкретные цвета носят поэтому концептуальный характер [Erickson, 1991, 124, 125]. Если мы изменим наши понятия о цвете — изменится и наш опыт цветовосприятия [Erickson, 1991, 126]. Эти соображения Г. Эриксона и Дж. Брэнигана помогают понять ход мысли Витгенштейна. Тип восприятия цвета зависит, как показывает Дж. Брэниган, от способа его чувственного и ментального восприятия и от переживания своего субъективного отношения к нему. «Бытие цвета — это бытие в рамках ситуации [или: зависимость от ситуации, being situated]» [Branigan, 2015, 6]14. В «Заметках о цвете» (III, 78) Витгенштейн указывает, что понятие самотождественности цвета нами до конца не определено [Витгенштейн, 2020, 160. III, 78; Erickson, 1991, 124]. Та лишенность очертаний, о которой ведет речь Максим Плануд, как раз и позволяет понять взаимопереходы и сочетания цветов, с одной стороны, и их способность-умение органично вливаться в целостность различных ситуаций, с другой.
Но как тогда быть с ЛФТ 2.0251: «Пространство, время и цвет (цветность: Färbigkeit) — формы объектов» [Wittgenstein, 1963, 12]? По Брэнигану: «Цвет, как правило, воспринимается объективно, звук — субъективно» [Branigan, 2015, 7].
Здесь также мыслимо (с позиции Максима Плануда) провести аналогию с Духом Святым: у Него есть Свой способ явления в мире — в виде света, являющегося разным людям (прежде всего монахам-исихастам) с разной интенсивностью и т. п., который неразрывно связан с Его сущностью, общей с Отцом и Сыном…15 Так и цвет, снисходя со своей трансцендентальности per se, в реальном мире (аналогично, опять же, звучащей музыке) предстает перед нами в формах объектов (будучи заключен в эти формы и сливаясь с ними). В ЛФТ 2.0232 речь идет об эйдосах или идеях объектов, а в ЛФТ 2.0251 — о реально существующих в материи объектах (τὰ ἔνυλα)16. Эта линия мысли Витгенштейна близко следует идеям аристотеликов и того же Плануда. Кроме того, как подчеркивает Эдвард Брэниган, «Цвет воспринимает ту или иную природу в зависимости от употребления» [Branigan, 2015, 4]. Данное соображение ведет нас к прагматике позднего Витгенштейна, который считал, что у свойств, допускающих градацию, одна их степень исключает любую другую17.
Впрочем, логически невозможно (ибо это — противоречие) находиться двум цветам в одно время и в одном месте (как и одной вещи — одновременно в двух местах и временах): «…это исключено самой логической структурой цвета» (ЛФТ 6.3751) [Wittgenstein, 1963, 144]. Вот эта самая die logische Struktur цвета и есть его логос, подобный логосу сущности. Она-то, говоря словами Е. Г. Драгалиной-Чёрной, трансцендентальна и субстанциальна, а не предикаментальна [Драгалина-Чёрная, 2014, 91]. Тем более что и Витгенштейна интересовала в «Заметках о цвете» (как и в ЛФТ) в первую очередь именно «логика цветовых понятий» (см.: [Витгенштейн, 2020, 157. I, 22; Erickson, 1991, 115, 117]). Напрасно Дж. Брэниган отказывает звуку и цвету в сущностном бытии («no essence for color and sound» [Branigan, 2015, 7]): с этим не согласились бы ни Максим Плануд, ни Людвиг Витгенштейн.
Цвет антиномичен. Поэту допускается сказать: «платье цвета печали», «глаза цвета мечты», «цвета надежды» и т. п., но не «рубашка телесного цвета». («Палевого» — пожалуйста.) Хорошо, а почему тогда не говорят: «шейный платок телесного цвета» (ведь такой платок может быть прозрачным)? Этот пример подтверждает максиму Витгенштейна о том, что «не все цветовые понятия следуют единой логике» [Витгенштейн, 2020, 164. III, 241]. Вообще говоря, здесь мы сталкиваемся с четвертым типом цветовых понятий, связанным «с прозрачными телами» [Витгенштейн, 2020, 164. III, 255]. Но ведь тело-то не прозрачно! К тому же и «руки телесного цвета» тоже не говорят (не принято; тавтология). Не метонимия ли это? Пожалуй, важнее сослаться на пятый тип применения понятия цвета, по Витгенштейну (вспомним и мысль Плануда) — «для некоторого участка в поле зрения, которое логически независимо от пространственного контекста» [Витгенштейн, 2020, 164. III, 255].
Заметим, кстати, что в контексте поздневизантийского богословия икон (паламит-ского или близкого ему по духу) возможно говорить, например, о том, что у праведников на иконах — лица солнечного цвета, поскольку (как пишет Феодор Педиасим в XIV в.) «божественные мужи соделали себя солнцевидными (ἡλιοειδεῖς)» [Wilson, 2020, 225.94]18…
Мы можем, пожалуй, не рискуя отступить от путеводной нити размышлений Людвига Витгенштейна, добавить к его идеям еще одно звено: всякий цвет — это множество. Во всяком случае, с точки зрения теории логической терминологии, «красное» может быть как общим термином, так и единичным (сингулярным), т. е. объем понятия «красное» может меняться в зависимости от конкретной пропозиции [Quine, 1960, 111]. Пространство цветности являлось логическим пространством как для Витгенштейна [Драгалина-Чёрная, 2011, 93, 96], так и для Максима Плануда. А согласно Солу Крипке, красное (и, соответственно, всякий натуральный цвет) — жесткий де-сигнатор [Kripke, 1980, 134]. Соглашаясь с выводом Е. Г. Драгалиной-Чёрной о том, что «цвет обладает, по Витгенштейну, логической структурой, поскольку отношения цветов рассматриваются им как отношения структур, то есть внутренние или, иначе говоря, формальные отношения» [Драгалина-Чёрная, 2011, 90], мы полагаем, что введение в рассмотрение проблемы цвета теоретико-множественного аспекта позволяет углубить ее видение, сделав соответствующий анализ более комплексным и многомерным. Настала пора сказать несколько слов о данном — теоретикомножественном — круге проблем, раз уж sub specie phenomenologiae «витгенштейновское (и планудовское. — Д. М. ) пространство цветности предстает как пространство смысла (курсив автора. — Д. М. )» [Др агалина-Чёрная, 2011, 98].
Учение о цвете, теория множеств и логика естественного языка: имеются ли параллели?
Представляется несомненным, что «множества являются фундаментальными понятиями для математики и человеческого мышления» [Ван Хао, Мак-Нотон, 1963, 10]19. Всякий цвет — это неопределенное и вряд ли измеримое множество элементов (fuzzy set); в самом деле, сколько красного в мире? Можно ли дать в каких-либо единицах физики, математики или информатики четкий ответ на этот вопрос? Вряд ли: мы еще не научились измерять в байтах или битах количество эмоций, которые столь непосредственным образом связаны с цветом.
И все-таки некоторые соображения могут быть высказаны. В своей первопроходческой книге А. Д. Шмелёв указывает, что фразы естественного языка типа « Все синие оттенки на полотнах Ван Гога — восхитительны» относятся к логическому типу квантификации (референт — «синие оттенки» — представляет собою подмножество объемлющих множеств «оттенки», «картины Ван Гога» и «картины»), а предложения наподобие « В этом полотне слишком много красного» (в которых мера этого красного сопоставляется с неким эталоном, релевантным для говорящего) — к прагматическому типу квантификации [Шмелёв, 2002, 82–83]. В «Заметках о цвете» Витгенштейн подчеркивал нечто очень близкое:
И не должен ли я согласиться, что предложения часто используются на границе между логикой и опытом, так что их смысл при переходе через границу меняется то так, то этак, и трактуются они то как выражение нормы, то как выражение опыта? [Витгенштейн, 2020, 158. III, 19]
Как видим, современная теоретическая лингвистика, по сути, на конкретном примере русского литературного и разговорного языка (т. е. и «логики», и «опыта») подтверждает эти соображения, указывая на конкретные смысловые аналогии из социально-культурного бытия языковой сферы.
Вместо заключения: парадоксы вербализации.
Цвет как символ и образ
В конце концов, коль скоро «не существует общепринятого критерия того, что есть цвет» [Wittgenstein, 1977, 4]20, то в копилку мысли принимаются самые разные соображения — включая и высказанное Планудом. Для Плануда очевиден ответ на вопрос, где существуют изначально объекты и их формы: — В Боге. Бог есть сущность? — Конечно: Но Он — и больше: Он есть Сущий (Исх 3:14). Так и цвет, понятие о котором глубоко антиномично, есть такая сущность, которая и больше (в идее), и меньше самой себя (в эмпирическом проявлении, вплоть до несовместимости между собой отдельных цветов — см. puzzle problem Витгенштейна). Поэтому он насквозь символичен в мировой культуре и искусстве, ибо символ (по С. С. Аверинцеву) и есть такое бытие, которое больше самого себя: «он есть знак, наделенный всей органичностью мифа и неисчерпаемой многозначностью образа» [Аверинцев, 2001, 155]21. А значит, подобно музыке, он может быть одним из вспомогательных образов для уяснения Бога, чем и воспользовался византийский монах начала XIV в. — века Рублёва, Джотто и Феофана Грека. Ведь что он, по сути, говорит? — Цвет служит аналогией бытию Св. Духа, Который — вея, где Ему угодно, — и вдохновляет живописцев. И поэтов.
Сигизмунд Кржижановский (1887–1950) однажды заметил, что у нас с Шекспиром «„цвета времени“ не совпадают» [Кржижановский, 2006, 283]. А можно ли говорить о «цвете свободы»?
В русской поэзии можно указать на первые две строчки стихотворения Константина Симонова: Небо, небо — цвет свободы, // Цвет лазури и победы… («Знамёна девятого мая», 1946). Кроется ли за этой метафорой онтологическое содержание?
В свете Витгенштейна и толкующего его Дж. Брэнигана — очевидно, да, причем субъективно-объективное: и небо кажется иным в неволе — и на свободе. Цвет неба и впрямь может зависеть от цвета (читай — модуса, тонуса, настроенности) души. Мы с миром (в моем его восприятии) и вправду тонко завязаны друг на друга. Это и есть «мой мир», «мой жизненный горизонт», мое «феноменальное поле»22, которое неизбежно целостно: мои ментальные переживания распространяются на всё. Ведь когда я вижу старинный храм или красивую девушку, небо кажется голубее, а розы — ярче… Эта моя настройка на мир очень тонкая и чуткая. Поэтому я субъективно могу воспринимать цвет объективным, но в целом это мое восприятие — субъективно-объективное; оно может быть сингулярностью (словечко Делёза и Бадью), точнее — серией сингулярностей, как и фраза, по Алессандро Барикко, — серией фраз, еще до записи на компьютере слагающихся в уме писателя [Барикко, 2016, 242–243]… Если звук я воспринимаю с убъективно- субъективным (и субъективно, и субъективным), потому что он ближе к коммуникации и предполагает, в идеальном случае, субъекта — источник звука, то общение цветами принято пока что разве что в тайных обществах или мужских союзах (наподобие африканских и полинезийских). Можно еще помыслить об общении вкусами (как в древнем племени, описанном в «Белых муравьях» Михала Айваза [Айваз, 2004, 246 сл.]). Но цветом (как правило) не передашь — без словесного аккомпанемента — глубину чувств, а звуком — вполне возможно. Поэтому цвет и воспринимается как отчужденно- объективный. А предмет или деталь формы? И объективно, и субъективно (смотря по моей эмоционально-аффективной вовлеченности в происходящее). Ведь красота высвобождает нашу свободу (сколь бы многообразно это ни проявлялось). А потому — у свободы есть цвет (и переносный — как в поэзии, в эпитетах типа перчатки цвета печали , и реальный — не просто ценимый нами, а такой, какой каждый из нас обожает в своем любимом образе).
А как чудесно описан голубой цвет ночных эмоций тетушки Герды в заглавном рассказе Туве Янссон из сборника «Умеющая слушать» (1971)23! Но не паче ли того трагичен и тот «последний голубой в(з)дох этого лета», наблюдать за растеканием которого «по астровым морям на дальних // древесно-карих берегах» призывает нас Готфрид Бенн24?
Витгенштейн мыслит в сходной тональности, подразумевая метафизическую окрашенность субъектности каждого из нас: «Следует ли мне сказать, что верование — это особая окраска (a particular colouring) моих мыслей? Откуда берется эта идея? Что ж, существует тон веры, как и тон сомнения» [Wittgenstein, 1986, IJ2e. I, 578] (cf. [Wittgenstein, 1986, 225*]).
Ему вторит и Бибихин, напоминая внемлющему: «В древнегреческом χρῶμα ἤθους, „окраска этоса“, значит особенности нрава» [Бибихин, 1998, 820].
Таким образом, логическое исследование внутренней сущности цвета у Витгенштейна продуктивно и многогранно. Следуя (осознанно или нет) различным граням богословской и философской мысли греко-византийской античности и Средневековья, полемически и творчески откликаясь на вызовы Нового и новейшего времени, оно способно в многообразии языковой игры повести философию и искусство вперед — к новым открытиям.
Список литературы Некоторые замечания о понимании цвета у Витгенштейна и в византийской традиции
- Аверинцев (2001) — Аверинцев С. С. Символ // Аверинцев С. С. София — Логос. Словарь. 2-е изд., испр. Киев, 2001. С. 155-161.
- Айваз (2004) — Айваз М. Белые муравьи // Айваз М. Другой город: Роман, повести, рассказы / Пер. с чешс. Е. Бобраковой-Тимошкиной. СПб., 2004. С. 233-297.
- Арутюнова (1999) — Арутюнова Н.Д. Символ и знак // Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр. М., 1999. (Язык. Семиотика. Культура). С. 341-346.
- Барикко (2016) — Барикко А. Юная Невеста / Пер. с итал. А. Миролюбовой. М., 2016.
- Бибихин (1998) — Бибихин В.В. К цвету // ПOЛYTPOПON. К 70-летию В.Н. Топорова / Отв. ред. Т. М. Николаева. М., 1998. С. 814-823.
- Ван Хао, Мак-Нотон (1963) — Ван Хао, Мак-Нотон Р. Аксиоматические системы теории множеств [1953] / Пер. с фр. И. Б. Погребысского под ред. Л. А. Калужнина. М., 1963.
- Витгенштейн (2020) — Витгенштейн Людвиг. Заметки о цвете (Избранные фрагменты). III, 73 / Пер. с нем. А. С. Ильиной под ред. Е. Г. Драгалиной-Чёрной и З. А. Сокулер // ВФ. 2020. № 6. С. 157-168.
- Гуссерль (2010) — Гуссерль Э. Картезианские медитации / Пер. с нем. В. И. Молчанова. М., 2010. (Философские технологии).
- Драгалина-Чёрная (2011) — Драгалина-Чёрная Е.Г. Крипке как предчувствие: апостериорные тавтологии Витгенштейна // Именование, необходимость и современная философия / Отв. ред. В. В. Горбатов. СПб., 2011. С. 88-99.
- Драгалина-Чёрная (2014) — Драгалина-Чёрная Е.Г. Глава I.3. Логика запрещённых цветов: от теории моделей к играм с независимыми платежами // Васюков В.Л., Драгалина-Чёрная Е. Г., Долгоруков В. В. Logica ludicra: аспекты теоретико-игровой семантики и прагматики. СПб., 2014. С. 86-110.
- Драгалина-Чёрная (2020) — Драгалина-Чёрная Е.Г. Цвета в логическом пространстве Людвига Витгенштейна // Вопросы философии. 2020. № 6. С. 146-156.
- Кант (1993) — Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н. О. Лосского. СПб., 1993. С. 50. Трансцендентальная эстетика, § 1.
- Карасёв (2021) — Карасёв Н.А., прот. Феномен православной мистики: истоки и осмысление в русской богословской мысли XVIII — середины ХХ вв. Дис. ... докт. богословия. М.: ОЦАД, 2021.
- Кассирер (2002) — Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 1. Язык / Пер. с нем. С. А. Ромашко. М.; СПб., 2002. (Книга света).
- Кржижановский (2006) — Кржижановский С.Д. Поэтика шекспировских хроник // Кржижановский С. Д. Собрание сочинений в пяти томах: Том 4. Поэтика заглавий. Философема о театре. Страны, которых нет. Фрагменты о Шекспире. Искусство эпиграфа (Пушкин). Драматургические приемы Бернарда Шоу / Сост., подг. текста и комм. В. Пе-рельмутера. СПб., 2006. С. 238-284.
- Логика и онтология (2020) — Логика и онтология в византийской догматической полемике. Очерки / Под ред. Д. С. Бирюкова и В. М. Лурье. СПб., 2020.
- Макаров (2019а) — Макаров Д. И. От мариологии до тритеизма: о возможных поздневизантийских параллелях к идеям Леонтия Византийского и Иоанна Филопона (Феофан Никейский, Иоанн XI Векк, Георгий Мосхамбар). Часть первая // Библия и христианская древность. Сергиев Посад, 2019. № 3 (3). С. 140-174.
- Макаров (2019б) — Макаров Д. И. От мариологии до тритеизма... Часть вторая // Библия и христианская древность. Сергиев Посад, 2019. №4 (4). С. 77-102.
- Макаров (2020) — Макаров Д.И. Две заметки об актуальности византийской мысли: Метохит и Бадью о природе. Критика Filioque у Мосхамбара на языке семантики Крипке // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2020. Вып. 3 (31). С. 44-56.
- Молчанов (2010) — Молчанов В. И. Трансцендентальный опыт и трансцендентальная наивность в Картезианских медитациях Эдмунда Гуссерля // Гуссерль Эдмунд. Картезианские медитации. С. 200-224.
- Сокулер (2020) — Сокулер З.А. Почему способы говорить о цвете могут быть интересны для философа? // ВФ. 2020. № 6. С. 139-145.
- Шмелёв (2002) — Шмелёв А.Д. Русский язык и внеязыковая действительность. М., 2002. (Язык. Семиотика. Культура).
- Янссон (2019) — Янссон Т. Умеющая слушать / Пер. [со шведс.] Л. Брауде // Янссон Т. Умеющая слушать. СПб., 2019. (Азбука-классика).
- Branigan (2015) — Branigan E. Wittgenstein / Context: Two Philosophical Lessons about Color and Sound [Draft, February 5, 2015]. URL: https://www.academia.edu/10714279/ Wittgenstein_Context_Two_Philosophy_Lessons_about_Color_and_Sound (дата обращения: 01.02.2022).
- Erickson (1991) — Erickson G. W. Wittgenstein's Remarks on Colour // Diálogos. 1991. Vol. 57. P.113-136.
- Kripke (1980) — Kripke S.A. Naming and Necessity. Cambridge, MA, 1980.
- Mango (1988) — Mango C. The Collapse of St. Sophia, Psellus and the Etymologicum Genuinum // Tóvi^og. Neoplatonic and Byzantine Studies Presented to Leendert G. Westerink at 75 / Ed. by J. Duffy, J. Peradotto. Buffalo, N. Y.: Arethousa, 1988. P. 167-174.
- Procopii Gazaei Commentarius in Genesin... [ad Gen. 1: 14] // PG 87/1. Parisiis, 1863.
- Quine (1960) — Quine W.V.O. Word and Object. Cambridge, MA, 1960.
- Sapientissimi cardinalis... — Sapientissimi cardinalis domini Bessarionis Refutatio syllogismorum Maximi Planudae de processione Spiritus Sancti contra Latinos. Syllogismus quartus // PG. 161. Parisiis, 1866. Col. 317А.
- Thomae Aquinatis Summa contra Gentiles. Cap. I, 45-46. URL: https://www. corpusthomisticum.org/scg1044.html (дата обращения: 01.02.2022).
- Wilson (2020) — Theodori Pediasimi Theoremata de nimbis sanctorum, quod nempe in modo circulari circa capita eorum depingitur, 8 // Wilson J. Theodore Pediasimos's "Theorems on the Nimbi of the Saints" // Byzantinoslavica. 2020. Vol. 78/1-2. P. 203-239.
- Wittgenstein (1963) — Wittgenstein Ludwig. Logisch-philosophische Abhandlung. The German Text with a New Translation by D. F. Pears & B. F. McGuinness; and with the Intr. by B. Russell. London; New York, 1963.
- Wittgenstein (1967) — Wittgenstein Ludwig. Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, I. 103. 104 / hrsg. und bearb. von G.H. von Wright, R. Rhees, G.E.M. Anscombe; trans. G. E. M. Anscombe. Cambridge, MA; London, 1967.
- Wittgenstein (1977) — Wittgenstein L. Remarks on Colour. Oxford, 1977.
- Wittgenstein (1986) — Wittgenstein Ludwig. Philosophical Investigations / trans. G. E. M. Anscombe. Oxford, 1986.