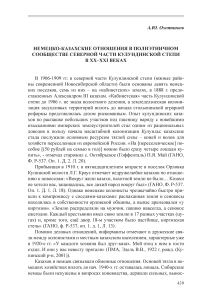Немецко-казахские отношения в полиэтничном сообществе северной части Кулундинской степи в ХХ-ХХI веках
Автор: Охотников А.Ю.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XVI, 2010 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521673
IDR: 14521673
Текст статьи Немецко-казахские отношения в полиэтничном сообществе северной части Кулундинской степи в ХХ-ХХI веках
В 1906-1909 гг. в северной части Кулундинской степи (южные районы современной Новосибирской области) были основаны девять немецких поселков, семь из них – на «кабинетских» землях, в 1888 г. предоставленных Александром ІІІ казахам. «Кабинетская» часть Кулундинской степи до 1906 г. не знала волостного деления, а земледельческая колонизация засушливых территорий вплоть до начала столыпинской аграрной реформы представлялась делом рискованным. Опыт кулундинских казахов по распашке небольших участков под пшеницу наряду с новейшими изысканиями имперских землеустроителей стал одним из рациональных доводов в пользу начала масштабной колонизации Кулунды; казахские стада послужили основным ресурсом тяглой силы – коней и волов для хозяйств переселенцев из европейской России. «На [переселенческое] пособие [(50 рублей на семью в год)] можно было сразу четыре лошади купить», - отмечал старожил с. Октябрьское (Гоффенталь) П.Я. Май (ГАНО, Ф. Р-537. Оп. 1. Д. 2. Л. 20).
Прибывшая в 1910 г. в пятнадцатилетнем возрасте в поселок Орловка Купинской волости Л.Г. Краус отмечает недружелюбие казахов по отношению к новоселам: «Вокруг жили казахи, пахотной земли не было… Казахи не хотели нас, защищались, все дикий народ вокруг был» (ГАНО, Ф. Р-537. Оп. 1. Д. 1. Л. 18). Однако немецкие колонисты чрезвычайно быстро пришли к компромиссу с соседями-казахами: распаханная земля и сенокосы находилась в собственности орловской общины, а выпас арендовался «у киргизов». «Землю распределяли на мужчин, пашню навсегда, а сенокос ежегодно. Каждый крестьянин имел свою землю в 17 разных участках (цугах) и, кроме того, ещё двор. 18-м участком было пастбище, киргизская степь» (ГАНО, ф. Р-537, оп. 1. д. 1, Л. 13).
Помимо деловых отношений, информанты отмечают и дружеские связи между колонистами и местным казахским населением, характерные уже в 1920-е гг. «У каждого хозяина был друг-казах. Мой отец к ним в гости ездил. И они у нас невесту прятали» (ПМА, Эдель В.В., 1922 г. рожд. (Ку-пинский р-н, 2001)).
Казахов и немцев связывали обменные отношения. Основой тягла в немецких хозяйствах вплоть до нач. 1940-х гг. оставалась лошадь. Сибирские немцы были искушены в вопросах коневодства, держали сильных, вынос- ливых лошадей, впрягавшихся в двух- и трёхлемешный плуг – нагрузка на такую лошадь доходила в среднем до семи га, в то время как средний показатель по Славгородскому окр. составлял 4,5 га (ГАНО, Ф. П-2. Оп. 2. Д. 406. Л. 99.). Помимо использования для работы и выезда, лошади служили средством обмена, либо предметом дарения при деловых контактах с казахским населением Северной Кулунды.
В Андреевском районе Славгородского округа Сибкрая в состав Шейн-дорфского сельского совета входили «русских – 7, немцев – 5, киргиз – 2» (ОАС администрации Карасукского р-на, Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л.1.)., на территории сельсовета находился аул Акпан, «по сельсовету выписывается всяких газет немецких, русских, киргизских 38 экземпляров и 4 журнала» (Там же, Л. 1об.).
В начале 1930-х гг. немецко-казахские отношения в Кулундинской степи проходили испытание на прочность. Казахи-беженцы от голода были вынуждены обратиться к более сохранным ресурсам немецких колхозов. В частности, в 1933 г. счетовод колхоза «Нацмен» (д. Цветное Поле (Блюменфельд)) был обвинен в торговых сделках с беженцами-казахами («казахам меняли хлеб на всевозможные предметы»), в то время как «члены артели страдали голодом». Чаша терпения односельчан переполнилась, когда администратор «даже нонешний год справил хату» (ГАНО, ф. Р-393, оп. 1, д. 27.).
В свою очередь, не поладившие с районным начальством специалисты немецких колхозов нередко находили работу в казахских хозяйствах. В частности, Ф. Вернер, основатель первого колхоза в Андреевском районе, в 1934 г убыл к другу - председателю казахского колхоза, трудоустроился счетоводом «из-за несогласия с политикой районного руководства» (ПМА, Вернер Ф.Ф., 1924 г.р. (Карасукский р-н, 2009)).
В военные годы казахское население Кулунды имело больше возможностей для выживаеия, нежели их славянские и немецкие соседи. Попытки фискальных органов организовать «правильный» учет и изъятие продуктов овцеводства встречали хорошо организованное «непонимание» казахов. «Жили казахи на острове, на озере [Студеное]. Колхоз «Жана Жол». В пустоши сделали специально для себя, для казахов – посевы, до 500 га площадью. У них конеферма была: председатель рысаков давал по блату, не считая. Жили-то они там – налог надо было платить за всю скотину. А у них 700 голов отара, с которой ни прибыли, ни налогов …» (ПМА, Мартыко М.В., 1925 г. рожд., Карасукский р-н, 2001). Помимо рыбы и картофеля, население переселенческих сёл, и прежде всего наиболее нуждавшихся сибирских и поволжских немцев, в 1940-е гг. выручала пшеница, которую можно было выменять или купить у казахов.
«В апреле месяце (1945 г. Андреевский. – Авт. ) РК ВКП(б), Райисполком и РайЗО предложили колхозникам из бывших немецких колхозов выехать в русские колхозы, а кто не желает - устраиваться там, где они сочтут нужным» (ГАНО, ф. П-4, оп. 34, д. 233, Л. 162.). Население немецких колхозов разместили по переселенческим сёлам: «Людей (из Гоффенталя. – Авт. )
повыселяли в Калачи, Ивановку, Новоивановку. В Анисимовке тоже много наших» (ПМА, Бендер Я.Я., 1932, Карасукский р-н, 2001). Немцы из Шен-дорфска были принуждены к переезду в окрестные деревни и аулы, в свою очередь, казахское население – к перемещению в оставленные немцами дома. Районные администраторы повторяли грубейшие ошибки «сталинской колонизации», производили «физическое» перемещение населения без технической, финансовой, моральной поддержки. За исключением с. Октябрьского (бывш. Гоффенталь), сибирско-немецкие сёла севера Ку-лунды до конца 1950-х гг. находились в составе совхозов и «укрупненных» колхозов – русско-украинских или казахских по основному этническому составу В 1947-1948 гг. Шейндорф и Гоффенталь «в соответствии с пожеланиями трудящихся» (Отдел архивной службы администрации Кара-сукского р-на. Ф. 1. Оп. 1. Д. 248. Л. 61.) были переименованы в Павловку и Октябрьское. Единственной данью реальному положению дел, изменившейся национальной структуре, была смена статуса поселения – в 1957 г. Павловка еще именовалась аулом (Отдел архивной службы администрации Карасукского р-на. Ф. 1. Оп. 1. Д. 74. Л. 219.), до начала 1960-х гг. там преобладало казахское население.
Традиционная, дистантная модель казахско-немецких отношений нашла свое отражение в хозяйственной жизни немецкого национального колхоза им. Тельмана (с. Орловка Купинского р-на) в 1960-1980-х гг. Увеличение товарности производства здесь происходило за счет аренды выпасных и сенокосных угодий у казахстанских хозяйств: «Коней казахам продавали. На их территории сено косили, а им подешевле да получше лошадей продавали. Нахлебниками мы им не были» (ПМА, Эдель В.В., 1922 г. рожд., Купинский р-н, 2001).
Бывшие спецпереселенцы-поволжские немцы контактировали по преимуществу с отдельными казахскими семьями, расселившимися в 1930-е гг. по русским и украинским селам Северной Кулунды. В 1950-е гг. поволжские немцы были вынуждены осваивать и те профессии, которые ранее были предметом «этнической специализации» казахов – работали пастухами, чабанами, сакманщицами. Результатом немецкого подхода к животноводству явились стабильно высокие результаты и быстрый профессиональный рост. «Ведь и года не прошло, как Ирина Вейде была ученицей 7 класса, а теперь она лучший чабан совхоза» (Кочковская районная газета «Трудовая жизнь» от 28.02.1958.). Сами немцы склонны скромно оценивать «этнические» успехи в овцеводстве. По мнению информантов, немцы-чабаны просто не утаивали шерсть и овец, как это делали «природные» овцеводы – казахи. С оптимизацией оплаты чабанского труда и ужесточением контроля за продукцией, чабаны - казахи начинают соревноваться по общим правилам. И выигрывают, занимая первые три результата по Краснозёрскому району, показывая и в среднем б о льшие значения настрига и привеса, чем немцы, русские, украинцы. (Краснозерская районная газета «Кулундинская правда» от 16.09.1963).
Сравнивая отношение соседей ко времени, информант-поволжский немец отмечает: «Немец все рассчитывает на три дня вперед. Русский живет одним днем. Для казаха времени как будто не существует» (ПМА, Эль-шайдт О.С., 1924 г. рожд. (Купинский р-н, 2001)).
Поволжские немцы отмечают исключительное дружелюбие, оптимизм, религиозность и верность традициям казахов-соседей. При весьма скептическом отношении к нормам гигиены в казахском доме, информанты-немцы с восхищением воспринимают казахский образ жизни. Информантов, чей хозяйственный опыт предусматривал тотальное подавление природы и развитые конкурентные отношения, завораживала его эффективность – казахский результат достигался при минимуме трудовых усилий, без вторжения в природу и с сохранением идеальных отношений с соседями.
Уникальным опытом в становлении казахско-немецких взаимодействий стали практики тамырства – побратимства, которые до сих пор связывают ряд казахских и немецких семей региона.
Таким образом, при значительном дистанцировании немецкой и казахской традиционной культур, реальные социально-исторические и политические условия развития российских сибирских провинций в ХХ-ХХІ вв. предопределили конкретные формы межэтнических взаимодействий, построенных на практиках социо-культурной адаптации с элементами интеграции и билингвизме на основе формирующейся поликультурной компетенции.