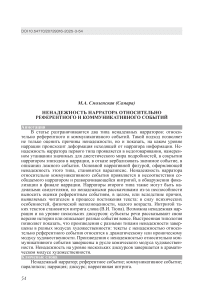Ненадежность нарратора относительно референтного и коммуникативного событий
Автор: М.А. Смоленская
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Нарратология
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье разграничиваются два типа ненадежных нарраторов: относительно референтного и коммуникативного событий. Такой подход позволяет не только оценить причины ненадежности, но и показать, на каком уровне наррации происходит деформация исходящей от нарратора информации. Ненадежность нарратора первого типа проявляется в недоговаривании, намеренном утаивании значимых для диегетического мира подробностей, в сокрытии нарратором эпизодов в наррации, в отказе вербализовать значимое событие, в описании ложного события. Основной нарративной фигурой, оформляющей ненадежность этого типа, становится паралипсис. Ненадежность нарратора относительно коммуникативного события проявляется в несоответствии сообщаемого нарратором и разворачивающейся интригой, в обнаружении фокализации в финале наррации. Нарраторы второго типа также могут быть надежными свидетелями, но ненадежными рассказчиками из-за неспособности выносить оценки референтным событиям, в целом, или вследствие причин, выявляемых читателем в процессе постижения текста: в силу психических особенностей, физической неполноценности, малого возраста. Интригой таких текстов становится интрига слова (В.И. Тюпа). Возможна ненадежная наррация и на уровне нескольких дискурсов: субъекты речи рассказывают свою версию истории или описывает разные события вовсе. Выстроенная типология позволяет показать, что произведения с разными типами ненадежности завершены в разных модусах художественности: тексты с ненадежностью относительно референтного события относятся к драматическому или ироническому модусу художественности. Произведения с ненадежностью относительно коммуникативного события завершены в русле комического модуса художественности. Ненадежность на уровне нескольких дискурсов завершается в драматическом модусе художественности.
Ненадежный нарратор, референтное событие, коммуникативное событие, паралипсис, наррация, дискурс, нарративная интрига
Короткий адрес: https://sciup.org/149149375
IDR: 149149375 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-54
Текст научной статьи Ненадежность нарратора относительно референтного и коммуникативного событий
The article distinguishes between two types of unreliable narrators: relatively referentive and communicative events. This approach allows not only to assess the reasons for unreliability, but also to show at what level of narration the information coming from the narrator is deformed. The unreliability of the narrator of the first type manifests itself in understatement, deliberate concealment of details significant for the diegetic world, in the narrator’s concealment of episodes in the narration, in the refusal to verbalize a significant event, in the description of a false event. The main narrative figure formalizing the unreliability of this type becomes paralipsis. The unreliability of the narrator in relation to the communicative event is manifested in the discrepancy between what is reported by the narrator and the unfolding plot, in the detection of focalization in the final narration. Narrators of the second type can also be both reliable witnesses, but unreliable narrators because of their inability to evaluate referential events, in general, or because of the reasons revealed by the reader in the process of comprehending the text: due to mental peculiarities, physical inferiority and small age. The intrigue of such texts becomes the intrigue of the word (V.I. Tiupa). Unreliable narration is also possible at the level of several discourses: the subjects of speech tell their own version of the story or describe different events at all. This typology allows us to show that works with different types of unreliability are completed in different modes of artistry: texts with unreliability in relation to the referent event belong to the dramatic or ironic mode of artistry. Works with unreliability in relation to the communicative event are completed in the comic modus of artistry. Unreliability at the level of several discourses is completed in the dramatic modus of artistry.
s
Unreliable narrator; referentive event; communicative event; paralipsis; narration; discourse; narrative intrigue.
Постановка проблемы основывается на исследованиях У. Бута, В.И. Тюпы, Г.А. Жиличевой, посвященных ненадежной наррации. Согласно Е.Ю. Моисеевой, «ненадежный нарратор – свидетель излагаемых событий, ограниченный в своих нарративных возможностях или намеренно вводящий в заблуждение; его свидетельство должно быть читателем в известной степени преодолено или скорректировано для постижения действительного смысла рассказанной истории» [Тезауруc исторической нарратологии 2022, 87]. Нарратология базируется на идее М.М. Бахтина о «двоякособытийной» [Тюпа 2021a, 122] природе нарративного дискурса. Вслед за исследователем, выделявшим «событие, о котором рассказывается» и «событие рассказывания» [Бахтин 1975, 403–404] нарратология различает референтное и коммуникативное событие. Референтное событие – «происшествие в составе излагаемой истории, касающееся обстоятельств диегетического мира и присутствия в нем персонажей» [Тезауруc исторической нарратологии 2022, 9]. Коммуникативное событие – «результативный акт взаимодействия креативного (автор) и рецептивного (слушатель/ читатель) сознаний участников нарративного дискурса» [Тезауруc исторической нарратологии 2022, 9]. Нам представляется, что ненадежность нарратора может быть пересмотрена относительно референтного и коммуникативного событий.
Ненадежность нарратора относительно референтного события
Ненадежность нарратора относительно референтного события может проявляться в сокрытии эпизода в наррации, отказе повествовать о событии, описании ложного события. В романе «Убийство Роджера Экройда» А. Кристи нарратором сокрыто свое участие в совершении преступления: «Письмо было доставлено без двадцати девять. А без десяти девять, когда я уже подкидал “Фернли”, оно все еще оставалось непрочитанным» [Кристи 2016, 58]. Эти слова комментируются им в финальном эпизоде: «Как видите, все написанное – чистая правда. Но представьте себе, если б я поставил многоточие после первой фразы! Не возник ли бы тогда у читателя вопрос, а что мы делали в эти десять минут?» [Кристи 2016, 347] Схожий пример – наррация следователя Камышева в записках, вставной части повести «Драма на охоте» А.П. Чехова. Эпизод убийства изъят из наррации, о чем свидетельствуют пропуски, восстановленные редактором в процессе чтения. Пропуск события выделен графически, о чем сообщает редактор в примечании: «Тут в рукописи Камышева зачеркнуто сто сорок строк. – А.Ч.» [Чехов 1975, III, 361] Он воплощает собой эксплицитного читателя, который свидетельствует о найденных в тексте Камышева противоречиях. Его комментарии на полях рукописи дают понять, что произошло преступление: он описывает рисунок «хорошенькой женской головки с искаженными от ужаса чертами» [Чехов 1975, III, 362], а в зачеркнутых строках разбирает слово «висок».
Нарраторы могут скрывать неприглядные события из своего прошлого. В романе Ф.М. Достоевского «Бедные люди» Варенька Доброселова отказывается повествовать, ведь «назад и посмотреть страшно» [Достоевский 1972, 18]. Письмо от 25 апреля полно ужаса из-за встречи с сестрой Сашей, оставшейся жить у Анны Федоровны, о которой героиня восклицает: «И она погибнет, бедная!» [Достоевский 1972, 24] Вместо называния конкретного события в прошлом героиня вспоминает умершую мать: «А если бы знала бедная матушка, что они со мною сделали! Бог видит!..» [Достоевский 1972, 25] Варенька приводит точку зрения господина Быкова – «не на всякой же жениться, которая…» [Достоевский 1972, 25], после чего следует умолчание и отказ от вербализации: «Да что писать!» [Достоевский 1972, 25].
Ненадежность нарратора может проявляться в недоговаривании, намеренном утаивании значимых для диегетического мира подробностей. Утаиваться может сущность персонажа или нарратора. В рассказе А.П. Чехова «Марья Ивановна» нарратор скрывает ее «природу»: «Дама в роскошно убранной гостиной была написана масляными красками на холсте и висела над диваном. Теперь можете возмущаться сколько вам угодно» [Чехов 1975, II, 314]. Эффект обманутого читательского ожидания построен на разрушении тривиального любовного сюжета с помощью утаивания природы героини включения мета-нарративных комментариев, благодаря чему текст становится высказыванием о труде писателя, хоть и ироничным. В повести «Соглядатай» В. Набокова нар-ратором утаивается тождество себя и Смурова. Этот же прием используется в рассказе В. Пелевин «Ника».
Фигурой, оформляющей ненадежность этого типа, становится паралип-сис: «опущение какого-либо важного действия или мысли фокального героя, которых ни герой, ни повествователь не могут игнорировать, но которые повествователь предпочитает скрыть от читателя» [Женетт 1998, 211]. Благодаря паралипсису, можно «скрыть важнейшую часть семантической информации диегесиса, но скрыть незаметно, замаскированно» [Ефименко 2023, 75]. Однако различны причины сокрытия события: если нарратор-преступник умышленно не упоминает о своей виновности, герои, пережившие травму, не способны вербализовать ее в эго-нарративе. Подобным текстам свойственна энигматическая интрига. Референтное событие становится событием, которое из наррации изъято.
Иной вариант – повествование о ложном референтном событии. Заглавие рассказа М.А. Осоргина «Убийство из ненависти» оформляет читательские ожидания однозначным образом. Нарратор следует этой схеме: рассказывает об отдыхе у друга помещика-толстовца на даче. Идиллическую жизнь героев нарушает сосед Густав Густавович наукообразными комментариями: «…тогда впервые в моей душе зародилась мысль об убийстве» [Осоргин 1992, 295]. После вмешательства соседа в рыбалку нарратор свидетельствует, будто «волосатая рука протягивает мне охотничий нож… и приказывает: «Убей!» [Осоргин 1992, 297], после чего следует натуралистичное описание убийства. Последний нарративный эпизод нарушает ожидания: спустя тридцать лет нарратор описывает прочтение новости о Густаве Густавовиче, который стал академиком. Описание убийства было ложным, однако в памяти нарратора надоедливый сосед «остался растерзанным моими руками, исполосованным моим ножом окончательно мертвым человеком, от которого я избавил живую природу, мир дышавший и таинственный, полный прелести и поэзии…» [Осоргин 1992, 297].
В романе М.А. Осоргина «Вольный каменщик» частотным становится забегание вперед к событиям, которые дальнейшей наррацией опровергаются. Сцена чудесного спасения кошки Егором Егоровичем «не настоящая, а выдуманная его возбуженным и радостным весенним состоянием» [Осоргин 1992, 60]. Подобный эпизод – мечта о возвращении жены из отпуска, куда она уехала с сыном и сослуживцем главного героя: о прощении молит «опозорившая себя, но раскаявшаяся женщина, ломая руки» [Осоргин 1992, 131], а Егор Егорыч играет роль властного мужа. Нарратор именно так и закончил бы главу и весь текст, если бы сцена «хоть немного соответствовала характерам героев» [Осоргин 1992, 131].
Ненадежность нарратора относительно коммуникативного события
Наррация может опровергать свое раннее свидетельство. В начале рассказа М.А. Осоргина «Игра случая» декларативно представлены две сюжетные схемы. Декларативная речь «вербализует осмысление и оценку – когнитивные процессы упорядочивания смыслов» [Тюпа 2016, 40]. В первой схеме описан крепкий брак, который может случайно «порваться паутинкой» [Осоргин 1992, 276], во второй – юноша и девушка, ожидающая от него письма. Наррация следует предложенным схемам. Юноша пишет письмо возлюбленной, но оно выпадает из ящика и не доходит до адресата. Его подбирает чиновник, но забывает отправить, оставив в кармане пальто. Жена чиновника убирает пальто с наступлением теплой погоды, что затягивает развязку на полгода. Но читательские ожидания разрушаются: письмо оказывается просьбой к адресату занести забытый зонтик. Налицо противоречие начального декларативного описания рассказанной истории. В финальном комментарии нарратор заявляет читателю, что разгадка была рядом, ведь юноша запечатал письмо в белый конверт, а чиновник подхватил синеватый.
Иной случай – обнаружение в финале наррации повествовательной «призмы». Е.Ю. Моисеева приводит в пример роман И.А. Гончарова «Обломов»: «объективная наррация от третьего лица перестает быть таковой, и читатель понимает, что все это время видел Обломова глазами другого персонажа в описании третьего, который его даже не знал» [Моисеева 2020]. Примером нар-рации подобного типа является роман О. Памука «Имя мне – красный», нарративную структуру которого отличает тройная повествовательная «призма». Главы написаны от лица героев, но финальная – от лица Шекюре – «закольцовывает» историю: героиня сообщает, что рассказала историю сыну Орхану (вторая «призма»), который «может быть, ее запишет» [Памук 2019, 568] (третья «призма»). Обращение Шекюре к читателю обнаруживает предвзятость нарратора: «Так что, прошу вас, не верьте, если Кара в его рассказе предстанет более беспомощным, чем он был на самом деле, Шевкет – более злым, наша жизнь – более трудной, а я – более красивой и смелой. Он, этот Орхан, чего только не придумает, чтобы история получилась занимательной и в нее поверили» [Памук 2019, 569].
Ненадежные нарраторы указанных подтипов являются и ненадежными «свидетелями», и ненадежными «судиями» [Бахтин 1979, 396]. Возможен иной вариант: нарратор может быть надежным свидетелем, но ненадежным «говорящим».
Первый случай – некомпетентный нарратор, не способный полноценно оценить референтные события. В незаконченном рассказе В.Я. Брюсова «Восстание машин» нарратор в письме другу заявляет, что он один из немногих, переживших восстание, но он не может проанализировать его: «Дать правильное толкование фактам, объяснить их – дело других, более осведомленных и более образованных» [Брюсов 1983, 100].
У нарратора может быть измененное восприятие из-за психических особенностей. В романе Саши Соколова «Школа для дураков» нарратор «ненадежен, поскольку обладает расщепленным сознанием» [Жиличева 2021, 46]. Текст представляет собой поток сознания, воспроизводящий мышление человека с раздвоением личности. Событийность текста ослаблена: события выстраивается кумулятивно, ассоциативно: «А почему они не ходили к реке? Они боялись водоворотов и стреженей, ветра и волн, омутов и глубинных трав. А может быть, реки просто не было? Может быть. Но как же она называлась? Река называлась» [Соколов 2024, 8].
Нарратор-ребенок не способен достоверно судить о мире. В романе П. Санаева «Похороните меня за плинтусом» вслед за словами бабушки повествующий ребенок воспринимает себя смертельно больным, перенимая ее оценку и пользуясь ею для самоидентификации: «Меня зовут Савельев Саша. Я учусь во втором классе и живу у бабушки с дедушкой. Мама променяла меня на карлика-кровопийцу и повесила на бабушкину шею тяжкой крестягой. Так я с четырех лет и вишу» [Санаев 2009, 5].
Нарратор может быть ненадежен в силу «физической неполноценности», как пишет Г.А. Жиличева по поводу финала романа Л. Добычина «Город Эн» [Жиличева 2013, 32].
Такие тексты отличает интрига слова – «интрига не самой наррации, а ее вербализации» [Тюпа 2021b, 162], которая «индуцирует эмоциональную реф- лексию получаемого нарративного сообщения» [Тюпа 2021b, 165]. Понимания ограниченность нарратора в вынесении оценок, читатель стремится разобраться в причинах ненадежности. Если в текстах с ненадежностью относительно референтного события в тексте есть знаки на то, как все действительно обстоит в диегетическом мире, ненадежность подобного типа не представляет читателю такой двойственности.
Ненадежность на уровне нескольких дискурсов
Хрестоматийный пример – рассказ Р. Акутагавы «В чаще», в котором представлены противоречивые точки зрения на преступление. На разные дискурсы указывают подзаголовки. В главке «Признание Тадзёмару» убийца признается в совершении преступления, однако последующие версии противоречат ему, в том числе, и постум-нарратив [Зусева-Озкан 2022, 31], в котором транслируется точка зрения духа убитого. Дискурсы сосуще ствуют равноправно, поэтому истинное происшествие установить невозможно.
Подобно строится роман Э. Диаза «Доверие», представляющий четыре разных дискурса. Первый дискурс – роман «Обязательства» Г. Ваннера о жизни незаурядного финансиста Бенджамина Раска и его талантливой жены Хелен, страдавшей ментальными расстройствами и умершей из-за экспериментального лечения, которое решил проводить ее супруг. Второй дискурс – мемуары Бивела, в которых он пытается оправдаться, выставляя себя гениальным финансистом. Причиной смерти своей жены Милдред он называет опухоль. Мемуары содержат множество лакун, которые графически выделены в тексте. Часть событий передана реферативно и отрывочно: «Короткий абзац о Милдред, домашние радости. Дом – утешение в эти счастливо-безумные времена» [Диаз 2024, 239]. Третий дискурс – текст «Что сохранила память» с подзаголовком «Мемуары Айды Партенцы», в котором читатель узнает, что Айда была нанята Бивелом, чтобы писать его мемуары. У второго дискурса появляется повествовательная «призма». Айда признается в создании уникального авторского почерка, который подходил бы Бивелу: «Если мой текст говорил и не вполне его голосом, он передавал то, как, на мой взгляд, ему следовало звучать» [Диаз 2024, 360] (курсив автора – М.С. ). Четвертый дискурс – расшифрованный Айдой Партенцой дневник Милдред, в которых кратко сообщается о её помощи мужу во всех финансовых операциях. Этот дискурс так же носит отпечаток Айды, поскольку почерк героини сложно расшифровать, а некоторые страницы вовсе вырваны.
Анализ ненадежности нарратора относительно референтного и коммуникативного событий позволяет не только оценить причины этой недостоверности, но и проанализировать, на каком уровне наррации происходит деформация. Такое разграничение позволяет показать, что произведения с ненадежностью относительно референтного события относятся к драматическому модусу художественности (Ф.М. Достоевский «Бедные люди», А.П. Чехов «Драма на охоте») и ироническому модусу художественности (А.П. Чехов «Марья Ивановна», В. Набоков «Соглядатай», М.А. Осоргин «Вольный каменщик» и «Убийство из ненависти»). При драматическом модусе художественности личность находится в противоречии «между внутренней свободой самоопределения и внешней (событийной) несвободой самореализации» [Тюпа 2024, 54]. И нарраторы Достоевского, и Камышев страдают из-за «неполноты самореализации» [Тюпа 2024, 54]. Иронический модус художественности предполагает
«субъективную «карнавализацию» (карикатурное переиначивание) событийных границ жизни» [Тюпа 2024, 56], отсюда – игра с читателем и ложные события. Произведения с ненадежностью относительно коммуникативного события завершены в комическом модусе художественности, в котором модель присутствия личности в мире является «праздничной праздностью» [Тюпа 2024, 48], а «функционально-ролевая граница «я» – …лишь легко переменяемая маска» [Тюпа 2024, 48]. Подобные тексты показывают «фольклорного дурака», «плута», «чудака» [Тюпа 2024, 48] – заблуждающегося нарратора, не способного к интерпретации событий. Ненадежность на уровне нескольких дискурсов завершается в драматическом модусе художественности, поскольку транслирует идею недо стижимости объективного знания о мире.