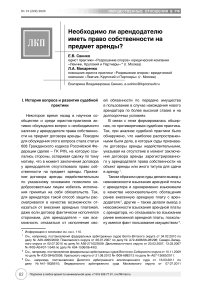Необходимо ли арендодателю иметь право собственности на предмет аренды?
Автор: Свинко Екатерина Владимировна, Макаренко Л.А.
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Гражданское право
Статья в выпуске: 10 (229), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о необходимости наличия у арендодателя права собственности на предмет договора аренды. Авторами анализируются как теоретические подходы к указанной проблеме, так и позиции российских судов по этому вопросу. Указываются средства правовой защиты, которые имеются в распоряжении сторон договора аренды и третьих лиц в случае заключения договора аренды арендодателем-несобственником. Авторы приходят к выводу о том, что отсутствие единой судебной практики по вопросу необходимости наличия права собственности в момент заключения договора аренды влечет негативные последствия для гражданского оборота предметов аренды.
Права собственности на предмет договора аренды, предварительный договор аренды, переквалификация арендных отношений в отношения по договору подряда, обязательственная природа прав арендатора
Короткий адрес: https://sciup.org/170172448
IDR: 170172448
Текст научной статьи Необходимо ли арендодателю иметь право собственности на предмет аренды?
I. История вопроса и развития судебной практики
Некоторое время назад в научном сообществе и среди юристов-практиков активно обсуждался вопрос о необходимости наличия у арендодателя права собственности на предмет договора аренды. Поводом для обсуждения этого вопроса стала статья 608 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), на которую ссылались стороны, оспаривая сделку по тому мотиву, что в момент заключения договора у арендодателя отсутствовало право собственности на предмет аренды. Признание договора аренды недействительным по указанному основанию позволяло недобросовестным лицам избегать исполнения принятых на себя обязательств. Так, для арендатора такой способ защиты рассматривался в качестве возможности отказаться от внесения арендных платежей, даже если договор фактически исполнялся сторонами, для арендодателя – как возможность отказаться от исполнения сво- ей обязанности по передаче имущества в пользование в случае нахождения нового арендатора по более высокой ставке и на долгосрочных условиях.
В связи с этим формировалась обширная, но противоречивая судебная практика. Так, при анализе судебной практики было обнаружено, что наиболее распространенными были дела, в которых суды признавали договоры аренды недействительными, указывая на отсутствие в момент заключения договора аренды зарегистрированного у арендодателя права собственности на объект аренды или иного титула для сдачи в аренду 1.
Таким образом одни суды делали вывод о невозможности взыскания арендной платы с арендатора и одновременно взыскивали в качестве неосновательного обогащения ранее внесенную арендную плату с арендодателя 2, другие – также делали вывод о невозможности взыскания арендной платы с арендатора, но отказывали во взыскании ранее внесенной арендной платы, поскольку имелся факт пользования имуществом 3.
* и нформацию о компании см. на с. 110.
Дела, в которых суды оставляли договор аренды в силе, были единичными. Например, в деле № А08-2798/2008-10 4 суд отметил, что отсутствие регистрации права собственности на переданные в аренду нежилые помещения не является основанием для вывода об отсутствии самого права и признания оспариваемого договора ничтожным. В этом случае между сторонами по оспариваемому договору возникли фактические отношения по возмездному пользованию имуществом, которые не противоречат нормам гражданского права и, в частности, положениям об аренде.
В деле № А75-11656/2010 5 суд установил, что договор финансовой аренды (лизинга) недвижимого имущества содержит элементы договора купли-продажи. Отсюда суд пришел к выводу о том, что отсутствие у продавца в момент заключения договора продажи недвижимости права собственности на имущество само по себе не является основанием для признания такого договора недействительным, поскольку ГК РФ не содержит положений, запрещающих заключение договоров купли-продажи в отношении будущей недвижимой вещи.
Различное понимание судами статьи 608 ГК РФ вынудило стороны договора аренды искать выход из сложившейся ситуации, в связи с чем они стали обращаться к конструкции предварительного договора.
Судебная практика по предварительным договорам аренды до определенного момента также была отрицательная. В большинстве случаев суды приходили к выводу о недействительности предварительного договора аренды до момента ввода объекта в эксплуатацию и возникновения права собственности арендодателя на него.
В части разрешения споров по предварительным договорам аренды рассмотрим интересное дело Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, в котором была предпринята весьма смелая попытка решения этой проблемы 6.
Суть спора сводилась к тому, что ООО «Премьер» (истец, арендатор) обратилось в суд с иском к ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» (ответчик, арендодатель) о взыскании неосновательного обогащения в сумме 49 675 157 рублей 62 копейки (стоимость неотделимых улучшений; излишне уплаченная арендная плата; сумма страхового депозита и т. д.).
Согласно фактическим обстоятельствам между сторонами было заключено соглашение об использовании коммерческой недвижимости, в соответствии с которым стороны обязались заключить договор аренды площадей в строящемся здании ТЦ «МЕГА Химки» после получения свидетельства о государственной регистрации права собственности и до введения здания в эксплуатацию осуществить подготовительные работы в помещениях торгового центра.
По заключенному соглашению ответчик предоставил истцу доступ к помещениям, истец, в свою очередь, выполнил за свой счет строительно-монтажные, отделочные и другие работы.
В дальнейшем ответчик в одностороннем порядке отказался от договора в связи с нарушением истцом своих обязанностей по внесению арендных платежей. В связи с прекращением отношений истец передал ответчику помещения с произведенными улучшениями и потребовал возвратить неосновательно полученные ответчиком денежные средства.
В этом деле нижестоящие суды со ссылкой на статью 608 ГК РФ взыскали сумму неосновательного обогащения, признав предварительный договор аренды недви- жимого имущества недействительным и обосновывая это тем, что правовым последствием заключения предварительного договора аренды является обязанность заключить договор аренды, а лицо, не являющееся собственником объекта аренды, в силу статьи 608 ГК РФ не может исполнить такое обязательство и его нельзя принудить к этому в судебном порядке.
Впоследствии Высший Арбитражный Суд Российской Федерации отменил соответствующие судебные акты, обратив внимание на тот факт, что предметом предварительного договора является обязательство сторон по поводу заключения будущего договора, а не обязательства по поводу недвижимого имущества. А то, что лицо в связи с отсутствием возможности или в силу недобросовестности может не исполнить обязательство по предварительному договору о заключении основного договора, не является основанием для признания предварительного договора недействительным 7.
Подход высшей судебной инстанции в части предварительных договоров аренды можно признать обоснованным с той точки зрения, что Высший Арбитражный Суд Российской Федерации предпринял попытку пресечь злоупотребления со стороны арендаторов, которые, как уже было указано, оспаривали договоры аренды, рассчитывая вернуть арендную плату или, наоборот, уклониться от ее уплаты.
С другой точки зрения арендатор, заключив предварительный договор аренды, принял фактически от арендодателя помещение во владение, вносил арендную плату за помещение, начал подготавливать его под свои коммерческие нужды, готовясь к продаже товаров в торговом центре, что, в свою очередь, свидетельствует о полноценном использовании арендатором объекта аренды. Таким образом, действия сторон по передаче и фактическому принятию имущества во временное владение и пользование приводит к мысли о том, что заключенный предварительный договор не является по сути предварительным договором, учитывая, что правовая природа предварительного договора предполагает заключение в будущем основного договора и права требования от другой стороны заключения основного договора.
Однако Высший Арбитражный Суд Российской Федерации при рассмотрении этого дела не остановился на констатации действительности предварительного договора. Интересным представляется вывод высшей инстанции о том, что поскольку ООО «Премьер» в период до окончания строительства здания выполняло подготовительные работы, при таких обстоятельствах речь может идти не о возмещении стоимости неотделимых улучшений, а об оплате результата соответствующих работ. То есть, по мнению суда, в этот момент ООО «Премьер» действовало не как арендатор, а как подрядчик. В процессе нового круга рассмотрения суды взыскали именно стоимость выполненных работ, которые имели для арендодателя потребительскую ценность.
Переквалификация арендных отношений в отношения по договору подряда вызывает сомнения с точки зрения существующего законодательства. Как предусмотрено статьей 702 ГК РФ, договор подряда предполагает выполнение работ подрядчиком в соответствии с заданием, полученным от заказчика, в то время как в описываемой ситуации арендатор, выполняя работы в помещении, бесспорно, действовал только в собственном интересе в целях дальнейшего открытия своего магазина в торговом центре. В связи с этим следовало бы рассмотреть вопрос о возможности применения к сложившейся ситуации статьи 623 ГК РФ «Улучшения арендованного имущества» с определением следующего:
-
• выполнены ли улучшения с согласия арендодателя или без такового;
-
• являются ли улучшения отделимыми (неотделимыми).
Однако в рассматриваемом деле эти вопросы оставлены судами без должного внимания.
Итак, как показывает проведенный анализ, различное понимание судами статьи 608 ГК РФ и, как следствие, отсутствие единой судебной практики по вопросу необходимости наличия права собственности в момент заключения договора аренды, безусловно, влечет негативные последствия для гражданского оборота.
Попытка внести ясность в вопрос применения статьи 608 ГК РФ была предпринята в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» (далее – Постановление № 73), которое в 2013 году было дополнено пунктами 10 и 12, в которых Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснил, что по смыслу статьи 608 ГК РФ арендодатель должен обладать правом собственности не в момент заключения договора аренды, а в момент передачи вещи арендатору. В связи с этим отсутствие права собственности у арендодателя на предмет аренды в момент заключения договора аренды не влияет на действительность такого договора.
При этом если арендодатель не смог даже к моменту передачи имущества в аренду приобрести право собственности, то сам по себе этот факт не влияет на действительность договора, а является лишь основанием для привлечения арендодателя к ответственности в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей по договору ( прим. авторов ).
Таким образом, в пункте 12 Постановления № 73 закреплен подход обязательственной природы прав арендатора, что, по мнению В.А. Белова, отвечает потребностям сторон, поскольку признание существова- ния обязательственной связи между сторонами договора позволяет не только обеспечить оплату пользования объектом аренды, но и дает право на случай недобросовестного поведения одного из его участников применить меры договорной ответственности 8.
С принятием Постановления № 73 правоприменительная практика поменялась существенным образом.
Вместе с тем Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, разрешив в Постановлении № 73 вопрос в части необходимости наличия права собственности на предмет аренды в момент заключения договора аренды, оставил неразрешенными иные вопросы: о фигуре арендодателя и его взаимоотношениях с третьим лицами, о чем будет сказано далее с точки зрения теории.
II. Обзор теоретических подходов к проблеме
Проведенный анализ российской судебной практики показывает, что в разные периоды времени по вопросу о том, обязательно ли арендодателю быть собственником предмета аренды, российские суды концептуально придерживались следующих подходов.
В соответствии с первым арендодатель должен непременно обладать правом собственности на передаваемую в аренду вещь уже в момент заключения договора. В противном случае договор аренды расценивается как ничтожный.
В рамках второго подхода арендодатель может и не обладать правом собственности в момент заключения договора, однако к моменту передачи вещи собственником он все-таки должен быть.
Эти подходы сущностно схожи, поскольку, так или иначе, предполагают обязательное наличие у арендодателя права собственности 9.
Согласно третьему подходу арендодателю вообще необязательно быть собственником передаваемой в аренду вещи. Отсутствие у арендодателя права собственности на предмет договора аренды не влечет недействительность последнего.
Рассмотрим указанные подходы на предмет теоретической обоснованности.
Поскольку речь идет о договорных отношениях, восприятие описанных подходов следует начать с обращения к основополагающим концептам обязательственного права, а именно к концепции обязательственной сделки и распорядительного акта, понятию обязательства и его исполнения.
В связи с тем, что наиболее ярко указанные идеи проявляются в рамках договора купли-продажи в системе передачи, рассмотрим их на примере этого договора, а затем проанализируем, применимо ли аналогичное рассуждение к договору аренды по принципу a fortiori.
По договору купли-продажи продавец обязуется передать вещь в собственность покупателя, а покупатель обязуется ее оплатить. Заключение договора купли-продажи порождает для продавца обязательство передать вещь в собственность покупателю. Очевидно, что на этом этапе продавец может и не обладать правом собственности на предмет договора купли-продажи, поскольку он лишь связывает себя обещанием перенести право собственности на покупателя. И лишь при исполнении своей обязанности по предоставлению посредством совершения распорядительного акта 10 продавец в силу принципа nemo plus iuris 11 должен быть собственником вещи. Именно эта идея позволяет признать действительными договор купли-продажи чужого и договор купли-продажи будущей вещи.
На основании изложенного продавец должен обладать правом собственности в момент исполнения обязанности по передаче вещи в собственность, поскольку исполнение договора купли-продажи предполагает реализацию правомочия распоряжения вещью, которое принадлежит лишь собственнику вещи. Последствием отсутствия у продавца права собственности будет не недействительность договора купли-продажи, а неисполнение продавцом обязанности по предоставлению, что является основанием для привлечения его к ответственности.
Применим аналогичную модель рассуждений к договору аренды, который, как и договор купли-продажи, является консенсуальным.
В соответствии с буквальным толкованием статьи 606 ГК РФ исполнением обязанности арендодателя по предоставлению является передача вещи и обеспечение временного спокойного владения и (или) пользования ею со стороны арендатора.
Рассмотрим возможные аргументы, вытекающие из указанной статьи, в пользу недействительности договора аренды, заключенного несобственником.
Одним из них является довод о том, что обеспечить спокойное владение и (или) пользование, как правило, может только собственник вещи 12. Следовательно, если лицо не является собственником, то, скорее всего, оно не сможет гарантировать арендодателю спокойное владение и (или) пользование, поэтому, предваряя возможные нарушения и злоупотребления, кажется рациональным установить норму о том, что арендодателем может быть только собственник вещи под страхом ничтожности договора. Кроме того, разрешение несобственникам сдавать вещь в аренду может спровоцировать злоупотребления со стороны неограниченного круга лиц по отношению к собственникам в виде, например, предоставления вещи в аренду без ведома собственника, в том числе сопряженное с захватом вещи 13. Третий аргумент в поддержку рассматриваемого подхода состоит в следующем. Арендодатель обязан передать вещь во владение и (или) пользование. Естественно предположить, что подразумевается не любое владение и (или) пользование, а только законное. Учитывая дискуссию, что считать основанием владения и пользования, одним из возможных подходов является признание владения и пользования, предоставленного не управомоченным собственником лицом, незаконным и неосновательным.
Теперь обратимся к аргументам, которые приводятся сторонниками противоположной точки зрения на фигуру арендодателя.
Обязанность обеспечить временное спокойное владение и (или) пользование вещью никак не связана с правом собственности на нее. Этот тезис был обоснован еще в рамках дискуссии об основной обязанности продавца: достаточно ли в рамках договора купли-продажи обеспечить спокойное владение или же продавцу необходимо непременно передать право собственности покупателю. В первой модели исполнить договор купли-продажи может любое лицо, во второй – только собственник. В случае с договором аренды перед арендодателем не стоит задача перенести на арендатора право собственности. Следовательно, не существует юридически значимых причин, из-за которых арендодатель-несобственник не мог бы исполнить свою обязанность по предоставлению. Действительно, у арендодателя-несобственника могут возникнуть при этом сложности, связанные с необходимостью согласования предоставления предмета аренды с собственником вещи. Однако этот аргумент не является право- вым и потому не может влиять на правовую допустимость рассматриваемой конструкции.
Иными словами, право собственности арендодателя на предмет аренды никак не влияет на возможность фактического предоставления вещи во владение и (или) пользование. Так, например, арендодателем по договору субаренды является арендатор, а не собственник вещи, однако никому не приходит в голову оспаривать действительность договора субаренды на этом основании. Аргумент сторонников недействительности договора, заключенного арендодателем-несобственником, о провоцировании незаконных захватов вещей также не выдерживает критики, поскольку в этом случае незаконный захват предваряется набором средств правовой защиты собственника вещи против ее незаконного владельца. Наконец, даже если принять во внимание взгляд на законность владения и пользования, в соответствии с которым арендодатель должен обладать правом сдачи вещи арендатору, которое изначально принадлежит лишь собственнику вещи в силу исключительности права собственности 14, то следует заключить, что такие обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем исполнении договора, но никак не о его недействительности.
Итак, мы проанализировали подходы к фигуре арендодателя с точки зрения общих положений обязательственного права. Из изложенного следует заключить, что серьезных возражений против действительности договора аренды, где арендодателем является несобственник предмета аренды, нет. Содержание основной обязанности арендодателя само по себе не требует от него никаких манипуляций с правом собственности, обеспечить спокойное временное владение и (или) пользование вещью потенциально может любое третье лицо.
Однако значение обладания арендодателем правом собственности не исчерпывается обязательственными правоотношениями, складывающимися в результате действия договора аренды. Все дело в пресловутой неопределенности правовой природы российского права аренды. Как известно, ГК РФ наделил право аренды некоторыми существенными вещно-правовыми элементами 15, сделав его похожим на ограниченное вещное право, что в действительности для определения фигуры арендодателя играет решающую роль.
Обязательственное право (в узком смысле) – это право на определенное поведение лица 16. Для договора аренды признание права арендатора обязательственным означает, что арендатор вправе требовать предоставления владения и (или) пользования вещью лишь от арендодателя. Его право не создает привилегию 17 по отношению к праву собственности лица, не являющегося арендодателем. В силу принципа относительности обязательства собственник не обязан претерпевать воздействие арендатора на свою вещь только лишь в силу факта наличия у арендатора прав владения и (или) пользования из договора аренды.
Ограниченное вещное право, в свою очередь, обременяет не поведение лица, а саму вещь. Признание права арендатора ограниченным вещным правом означает установление привилегии в отношении права собственности на предмет аренды. В этом случае собственник обязан терпеть, что арендатор владеет и (или) пользуется вещью. По сути, собственник обязан нести обязанности арендодателя. Отсюда с очевидностью следует вывод о том, что право аренды, как и любое иное ограниченное вещное право, в силу принципа nemo plus iuris может предоставить только собственник вещи.
Однако следует заметить, что под предоставлением права аренды следует понимать не заключение договора аренды, а его исполнение арендодателем. Само по себе заключение договора не устанавливает ограниченное вещное право, а лишь создает обязательство его установить 18, поэтому нет никаких причин не допускать, например, аренду будущих вещей. Следовательно, даже в рамках вещно-правового понимания права аренды арендодателю необходимо быть собственником лишь в момент передачи вещи арендатору. Исходя из этого подход, согласно которому от арендодателя требуется быть собственником вещи, теоретически обоснован только при условии его редуцирования до требования к арендодателю быть собственником вещи в момент исполнения своей обязанности по предоставлению.
Таким образом, дискуссия о необходимости обладания арендодателем правом собственности на предмет аренды не является самостоятельной, а есть следствие давно известной российской полемики о вещной или обязательственной природе права аренды. Отождествление арендодателя с собственником вещи вытекает из понимания права аренды как вещно-правового и, наоборот, обратный подход является логичным следствием понимания права аренды как чисто обязательственного права.
Отсюда необходимо заключить следующее. Полярная точка зрения о том, что арендодателем может являться только собственник предмета аренды, не находит догматического обоснования. При заключении консенсуального договора аренды происходит лишь установление обязательства ис- полнить договор. Право собственности даже при отношении к праву арендатора как вещно-правовому понадобится арендодателю не ранее исполнения обязанности установить вещное право на предмет аренды.
С учетом изложенного оба подхода к фигуре арендодателя являются теоретически возможными и догматически обоснованными. Выбор конкретного подхода зависит от особенностей правопорядка, прежде всего от существующей в нем системы ограниченных вещных прав и, как следствие, устоявшегося отношения к правовой природе права аренды.
Особенность российского правопорядка состоит в неопределенности правовой природы права аренды. Во многом в этом коренится причина частой смены подходов к фигуре арендодателя в российской судебной практике. Неопределенность в выборе модели проявляется даже на уровне высших судебных инстанций. Казалось бы, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сделал выбор и закрепил в пункте 10 Постановлении № 73 подход, в соответствии с которым арендодателю требуется быть собственником на стадии исполнения договора, что, как обосновывалось ранее, является следствием восприятия права аренды как вещно-правового. Такое толкование статьи 608 ГК РФ вполне допустимо, поскольку в норме говорится не о праве заключить договор аренды, а о праве «сдать имущество в аренду». Понятие «сдача» можно толковать как начало исполнения обязанности по предоставлению, то есть фактическую передачу вещи арендатору. Однако далее следует пункт 12, который с 2012 года обобщил наметившийся в практике Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации подход и закрепил положение о том, что при рассмотрении споров, связанных с нарушением арендатором своих обязательств, арендодатель не обязан доказывать наличие у него права собственности на предмет аренды, а доводы арендатора о том, что такая сделка является недействительной, не принимаются судом во внимание. Таким образом, можно наблюдать сосуществование взаимоисключающих моделей права аренды в пунктах 10 и 12 Постановления № 73 – аренда как вещное право при условии его установления арендодателем-собственником и чисто обязательственная аренда при предоставлении владения и (или) пользования вещью арендодателем-несобственником, что, по мнению авторов настоящей статьи, лишь подчеркивает остающуюся неопределенность в вопросе о правовой природе права аренды.
Можно ли считать такой дуализм в правовой природе права аренды оправданным? Ведь единые правовые явления требуют единого подхода к их понимаю. В контексте российского законодательства такой дуализм, к сожалению, неизбежен. В силу отсутствия в российском праве в числе перечня ограниченных вещных прав права застройки и эмфитевзиса аренда продолжает выступать для них единственно возможной альтернативой. Таким образом, происходит объединение под одним понятием совершенно разных правовых явлений, что невозможно признать удовлетворительным. Решение указанной проблемы позволит решить и проблему значения права собственности для сдачи имущества в аренду.
III. Средства правовой защиты
Ценность теоретической модели состоит не только в оригинальности и догматической обоснованности самой конструкции, но и в том, насколько хорошо она встраивается в систему права в целом, соответствует общим правовым принципам и обеспечивает эффективную защиту прав всех участников гражданского оборота.
Рассмотрим, какие же средства защиты прав сторон договора аренды и третьих лиц предлагает каждый из подходов к фигуре арендодателя.
Вещно-правовая модель права аренды, которая неизменно приводит к выводу о необходимости обладания правом собственности у арендодателя на предмет аренды, предполагает следующие варианты защиты прав участников оборота.
Первым , самым простым и понятным для правоприменителей, способом реагирования на нарушение права является признание договора, заключенного арендодателем-несобственником, недействительным на основании несоответствия сделки закону или иному правовому акту. Действует следующая логика: поскольку принцип установления ограниченного вещного права только собственником существует не просто так, а призван, помимо прочего, обеспечить интересы третьих лиц, было бы неверным допускать существование договоров, посягающих на этот принцип. Такой подход господствовал в российском праве до 2013 года.
Недействительность договора аренды – универсальное средство защиты и для сторон по договору, и для собственника вещи. Как было отмечено в разделе I, наиболее типичной ситуацией в судах было возражение арендатора о ничтожности договора, сделанное с целью защититься от иска арендодателя о взыскании задолженности по арендной плате. Применение последствий недействительности ничтожного договора в рамках вещно-правовой модели права аренды возможно и для действительного собственника вещи, поскольку позволяет дискредитировать право арендатора на вещно-правовую защиту своего права аренды (которое, напомним, действует в том числе против собственника вещи) и, таким образом, вернуть вещь.
Решение признавать договоры, заключенные неуправомоченным арендодателем, ничтожными кажется простым и понятным. Однако у него больше недостатков, чем достоинств.
Во-первых, именно такой подход спрово- цировал в период до 2013 года практику недобросовестного поведения арендаторов. Такое положение вещей свидетельствует о явной неадекватности подхода.
Во-вторых, помимо защиты недобросовестных участников оборота, он влечет за собой и игнорирование законных ожиданий добросовестных арендаторов. Арендатор может не знать о неуправомочен-ности арендодателя, что вполне возможно в случае, когда речь идет об аренде движимой вещи, находящейся во владении арендодателя. Для аналогичных ситуаций при купле-продаже существует институт защиты добросовестного приобретателя, закрепленный в статье 302 ГК РФ. Если добросовестный приобретатель может в силу своей добросовестности 19 получить право собственности на вещь, то по принципу a fortiori добросовестный арендатор также должен иметь возможность получить право аренды. Примечательно, что с 2013 года и в залоговом праве появилась фигура добросовестного залогодержателя 20.
Таким образом, если относиться к аренде как ограниченному вещному праву, то необходимо признать и наличие фигуры добросовестного арендатора. Кроме того, даже если в конкретном случае добросовестный арендатор не приобретет право аренды в силу отсутствия всех необходимых для этого условий, то у него должно остаться договорное требование к не исполнившему обязанность арендодателю, в то время как применение последствий ничтожного договора по иску собственника необоснованно лишает его такой возможности.
Кроме того, стоит заметить, что признание сделки ничтожной на основании статей 608 и 168 ГК РФ проводилось российскими судами без особого теоретического осмысления, более или менее подробной аргументации во многом из-за недостаточного понимания, где пролегает граница вещного и обязательственного права 21. В тот период российская судебная практика часто ни-чтожила разного рода сделки, основываясь на статье 168 ГК РФ. Достаточно вспомнить широко распространенную практику обхода статьи 302 ГК РФ посредством признания недействительными сделок, совершенных неуправомоченными продавцами, которая существовала до появления постановления Конституционного Суда Российской Федерации № 6-П 22. Представляется, что в случае с арендой суды руководствовались той же логикой – проще признать сделку недействительной и применить последствия ее недействительности, тем более, что закон, кажется, дает для этого веские основания, чем вдаваться в теоретические рассуждения.
Отсюда вытекает второй подход к защите прав участников оборота, необходимость которой обусловлена неуправомоченно-стью арендодателя. Он обоснован четким разграничением обязательственных отношений в виде заключения договора аренды и вещно-правовых отношений в виде установления права аренды. Между арендатором и неуправомоченным арендодателем действует обязательственный договор аренды – арендодатель обязуется перед арендатором установить вещное право аренды, за что арендатор обязуется внести арендную плату. Подчеркнем, в рамках вещно-правовой модели аренды основная обязанность арендатора состоит в установлении ограниченного вещного права, а не в обеспечении спокойного владения и (или) пользования. Неуправомоченный арендодатель не в состоянии установить ограниченное вещное право, следовательно, он отвечает перед арендатором за неисполнение своей обязанности по предоставлению. В большинстве случаев у него наступает до- говорная ответственность в виде обязанности уплатить арендатору убытки. При этом в рамках договорных отношений добросовестность сторон по вопросу о том, кто является собственником предмета аренды, не важна.
Обратная ситуация возникает при обсуждении арсенала средств защиты принадлежащей собственнику вещи. Как уже обосновывалось, при попытке собственника виндицировать вещь ( или предъявить негаторный иск – прим. авторов ), добросовестность арендатора должна иметь значение по аналогии с добросовестностью приобретателя или залогодержателя. Добросовестный арендатор (при наличии некоторых иных условий, коррелирующих со статьями 302 и 335 ГК РФ 23) приобретает право аренды на основании закона, а собственнику остается обращаться с требованиями к неуправомоченному арендодателю. Какие это требования – требования о взыскании убытков, требования, обусловленные причинением вреда, или кондикци-онные требования – отдельный непростой вопрос. От ответа на него зависит и адресат соответствующих требований. Интересен и вопрос о том, как должен определяться размер такого требования с учетом того, что собственник будет вынужден претерпевать обременение в виде аренды и такое претерпевание не может быть бесплатным. При этом размер требования, по мнению авторов настоящей статьи, не может быть равным арендной плате по договору, поскольку в таком случае собственнику в нарушение принципа свободы договора будут навязаны арендные отношения и сам этот факт навязывания, вторжения в сферу осуществления права собственности, окажется неучтенным.
Впрочем, российская судебная практика никогда не рассматривала взаимоотношения сторон по договору аренды и действительного собственника вещи с позиции добросовестного арендатора, поскольку от недействительности договора сразу перешла к обязательственной модели аренды (по крайней мере, при разрешении проблемы неуправомоченности арендодателя).
Теперь обратимся к средствам правовой защиты, которые предлагает обязательственная модель права аренды .
Пункт 12 Постановления № 73 закрепляет следующий подход.
Прежде всего, как указывает Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и как неоднократно подчеркивалось выше, следует четко разграничивать обязательственные отношения сторон по договору и иные отношения, возникающие в результате нарушения прав третьих лиц. Поскольку основной обязанностью арендодателя является обеспечение спокойного владения и (или) пользования вещью, что никак не связано с наличием права собственности на вещь, арендатор при взыскании с него задолженности по внесению арендной платы не вправе ссылаться на недействительность договора на основании неуправомоченности арендодателя. Арендатор обязан вносить арендную плату арендодателю, если последний надлежащим образом исполняет свою встречную обязанность по предоставлению независимо от того, является ли арендодатель собственником. Таким образом, нивелируется проблема недобросовестных арендаторов. Судебная практика, разрешая подобные споры, с появлением Постановления № 73 достаточно последовательно придерживается указанного им подхода 24.
В отношении средств защиты собствен- ника предмета аренды Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации так же строго выдерживал логику рассуждений исходя из обязательственной природы права аренды. Собственник всегда вправе виндицировать вещь (или предъявить негаторный иск) у арендатора независимо от того, добросовестный он или нет, поскольку обязательственное право арендатора корреспондирует только соответствующей обязанности арендодателя, а не всех третьих лиц. Однако здесь мы сталкиваемся с явной коллизией двух концепций. В силу положений статьи 305 ГК РФ арендатор наделен вещно-правовым иском против всех третьих лиц, включая собственника вещи. Очевидно, что эта норма исходит из вещно-правового понимания права аренды и прямо исключает возможность действительного собственника истребовать вещь. Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, разъясняя в пункте 12 Постановления № 73 право собственника во всех случаях виндицировать вещь, просто игнорирует существование нормы статьи 305 ГК РФ. Аналогичного подхода придерживаются и суды, когда удовлетворяют иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения действительного собственника к арендатору, заключившему договор с неуправомоченным арендодателем 25. Может быть, уже следует прийти к окончательному выводу о том, что аренда должна быть обязательственной, а не вещной?
Итак, собственник вправе истребовать вещь у арендатора. Осталось разрешить вопрос о том, как быть с внесенной арендатором арендодателю арендной платой. Здесь большое значение имеет добросовестность арендатора и арендодателя.
Сначала рассмотрим ситуацию с добросовестным арендатором и добросовестным арендодателем. Арендатор вносит арендную плату и тем самым исполняет свою встречную обязанность по действительному договору аренды. С этой точки зрения у собственника нет никаких оснований для ее взыскания с арендатора. С другой стороны, неуправомоченный арендодатель получает арендные платежи за предоставление чужого имущества в аренду. Он неосновательно извлекает доходы, поскольку в соответствии со статьей 136 ГК РФ право на получение плодов и доходов от пользования вещью принадлежит ее собственнику. Подчеркнем разницу: арендодатель основательно получает арендную плату от арендатора по договору аренды (и в этом смысле арендатор не вправе отказаться от ее уплаты), но он неосновательно извлекает доход из чужого имущества. Иными словами, неуправомоченный арендодатель (и тут самое время уточнить неоднократно используемую нами формулировку: не-управомоченный арендодатель понимается не как не собственник вещи, а как арендодатель, неуправомоченный на получение дохода от сдачи имущества в аренду) неосновательно обогащается за счет собственника вещи. Между ними возникают кондик-ционные отношения на основании статьи 303 ГК РФ 26, в рамках которых собственник вправе предъявить к арендодателю требование о взыскании неосновательного обогащения в виде полученных им арендных платежей.
В ситуации с добросовестным арендатором и недобросовестным арендодателем меняется лишь период, за который собственник вправе потребовать неполученные доходы: если арендодатель добросовестный, то он может это сделать с момента, когда он узнал или должен был узнать о не- правомерности сдачи имущества в аренду, если арендодатель недобросовестный – за весь период. Такое регулирование отношений между собственником и неуправомо-ченным арендодателем не находится, как можно подумать, в противоречии с положениями статьи 608 ГК РФ. Формулировку «право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику», которой оперирует названная статья, возможно толковать как «право на получение дохода от сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику».
Осталось рассмотреть ситуацию, когда и арендодатель, и арендатор являются недобросовестными лицами (либо недобросовестным является только арендатор). В случае если обе стороны договора недобросовестны, то Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации предлагает собственнику предъявлять требование о взыскании всех доходов, которые это лицо извлекло или должно было извлечь, и к арендодателю, и к арендатору, которые отвечают солидарно. Солидарные обязательства часто пугают как российских юристов, так и суды 27. Кроме того, в силу пункта 1 статьи 322 ГК РФ солидарные обязательства устанавливаются только в случаях, установленных законом или договором. Видимо, в силу этих причин Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации принял решение прямо разъяснить возможность возникновения солидарных обязательств арендатора и неуправо-моченного арендодателя.
Обоснован ли в этом случае солидари-тет? Основание обязанности арендодателя передать собственнику внесенные арендатором арендные платежи понятно – как мы выяснили, оно кроется, по мнению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, в неосновательном обогащении. Однако почему аналогичная обязанность существует у арендатора, который, хоть и является недобросовестным, но вносит арендные платежи на основании действительного договора аренды? Более того, недобросовестный арендатор не обогащается за счет собственника. Фактически он находится в худшем положении, чем не-управомоченный арендодатель, поскольку он уже заплатил последнему и теперь снова вынужден платить предъявившему требование собственнику 28. Авторы настоящей статьи видят обоснование такого подхода в следующем. Арендатор и арендодатель в процессе исполнения заключенного между ними договора сознательно вторглись в правовую сферу собственника вещи. Умышленное вторжение, посягательство на осуществление собственником своих правомочий является причинением вреда праву собственности лица, то есть деликтом в его широком понимании 29. Последствия этого деликта выразились в неполучении собственником доходов от пользования 30. Таким образом, арендатор как лицо, причинившее вред, обязан возместить причиненный вред так же, как и неуправомочен-ный арендодатель (и, по мнению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, в таком же размере). Следовательно, они должны отвечать солидарно 31.
Из предложенной читателю логики рассуждений неизбежно следует вывод о том, что даже при условии добросовестности арендатора он все равно совершает деликт. Однако Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 12 Постановления № 73 ясно указывает, что для установления солидарных обязательств обязательна недобросовестность арендатора. Это не что иное, как пример редуцирования понятия деликта по политико-правовым соображениям посредством установления дополнительных элементов его состава, а именно недобросовестности, то есть вины, арендатора 32. Действительно, такой подход кажется вполне логичным ввиду значительного размера последствий причинения вреда в виде неполученной собственником арендной платы, которые презюмируются Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Кроме того, привлечение к ответственности даже добросовестного арендатора неизбежно приведет к тому, что заключать договоры аренды станет слишком рискованно, поскольку всегда над арендатором будет нависать риск быть привлеченным к деликтной ответственности.
Таким образом, проведенный анализ средств правовой защиты участников оборота в условиях неуправомоченности арендодателя показал, что их набор в зависимости от выбранной модели права аренды значительным образом разнится. В настоящее время российская судебная практика придерживается в вопросе управомоченно-сти фигуры арендодателя обязательствен- ного понимания права аренды и предоставляет участникам оборота соответствующий такому пониманию набор средств защиты своих субъективных гражданских прав.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ *
-
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : Федеральный закон от 26 января 1996 года № 14-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
2. Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды : постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 73. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
3. Белов В. А. Договор аренды: научнопознавательный очерк. М. : Статут, 2018. 159 с.
-
4. Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. М. ; Л. : АН СССР, 1948. 839 с.
-
5. Hohfeld W. N. Fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning and other legal essays. Yale University Press, 1923. 420 c.
-
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
-
7. Тололаева Н. В. Пассивные солидарные обязательства: российский подход и континентально-европейская традиция : дис....канд. юрид. наук. М., 2017. 174 с.
-
8. Агарков М. М. Вина потерпевшего в обязательствах из причинения вреда // Советское государство и право. 1940. № 3. С. 72–75.
-
9. Гражданское право : учебник в 2-х т. / отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд. М. : Статут. 2011. Т. II. 1208 с.
-
10. Красавчиков О. А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М. : Юридическая литература, 1966. 200 с.
Окончание. Начало на с. 77
«Тонких нюансов, связанных с приобретением жилья на “первичке” в разное время года, достаточно много, – комментирует начальник отдела продаж Департамента новостроек ИНКОМ-Недвижимость Юрий Лебедев. – Например, летом в Москве заметно меньше людей: кто-то уезжает на дачу, кто-то отправляется путешествовать. Как следствие, дороги становятся свободнее, парковки тоже. Поэтому если клиент приобрел квартиру в летний период, то осенью, когда все вернутся в столицу, его может ждать неприятный сюрприз: припарковать машину у дома негде, даже выехать из ЖК в час пик уже проблема. Вопрос трафика желательно изучить заранее, хотя бы по форумам местных жителей. Летом у нас длинный световой день и достаточно тепло, из-за чего может сложиться обманчивое впечатление об инсоляции и теплоснабжении квартиры. А зимой, когда кругом снег и стоят голые деревья, сложнее понять видовые характеристики ЖК».
«Я считаю, что середина осени является весьма удачным моментом для покупки квартиры, – отмечает Валерий Кочетков. – Сейчас в продаже есть как совсем новые проекты, жилье в которых можно успеть приобрести до повышения цен, так и ЖК, где продажи стартовали весной, и, соответственно, дома находятся в более высокой степени готовности. Поэтому покупателю есть из чего выбрать, все зависит от его пожеланий и финансовых возможностей».
Информация предоставлена пресс-центром компании ИНКОМ-Недвижимость
Список литературы Необходимо ли арендодателю иметь право собственности на предмет аренды?
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26 января 1996 года № 14-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы "КонсультантПлюс".
- Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды: постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 73. Доступ из справочной правовой системы "КонсультантПлюс".
- Белов В. А. Договор аренды: научно-познавательный очерк. М.: Статут, 2018. 159 с.
- Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. М.; Л.: АН СССР, 1948. 839 с.
- Hohfeld W. N. Fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning and other legal essays. Yale University Press, 1923. 420 c.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы "КонсультантПлюс".
- Тололаева Н. В. Пассивные солидарные обязательства: российский подход и континентально-европейская традиция: дис.. канд. юрид. наук. М., 2017. 174 с.
- Агарков М. М. Вина потерпевшего в обязательствах из причинения вреда // Советское государство и право. 1940. № 3. С. 72-75.
- Гражданское право: учебник в 2-х т. / отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд. М.: Статут. 2011. Т. II. 1208 с.
- Красавчиков О. А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М.: Юридическая литература, 1966. 200 с.