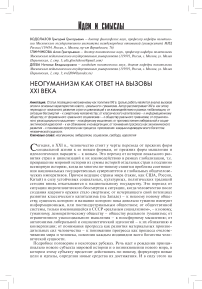Неогуманизм как ответ на вызовы ХХI века
Автор: Водолазов Григорий Григорьевич, Глинчикова Алла Григорьевна, Деева Наталья Владимировна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена неогуманизму как политике XXI в. Целью работы является анализ вызовов эпохи и основных характеристик нового, «реального» гуманизма. Автор рассматривает XXI в. как эпоху перехода от локального развития стран и цивилизаций к их взаимодействию в рамках глобализации; от ситуации бессмертия - к смертному человечеству; от классического капитализма - к информационному обществу; от формального «реального социализма» - к обществу реального гуманизма; от ограниченного узкосоциального мышления к ноосферному мышлению; от противостояния либеральной и социалистической идеологий - к их сближению и конвергенции; от понимания прогресса как экономического развития - к пониманию прогресса как процесса «присвоения» каждым индивидом всего богатства человеческой сущности.
Неогуманизм, либерализм, социализм, свобода, идеология
Короткий адрес: https://sciup.org/170171088
IDR: 170171088 | DOI: 10.31171/vlast.v28i1.7080
Текст научной статьи Неогуманизм как ответ на вызовы ХХI века
С егодня, в ХХI в., человечество стоит у черты перехода от прежних форм социальной жизни к ее новым формам, от прежних форм мышления и идеологических парадигм – к новым. Это переход от истории локального развития стран и цивилизаций к их взаимодействию в рамках глобализации, т.е. превращение мировой истории из суммы историй отдельных стран в подлинно всемирную историю, когда во многом по-новому ставится проблема соотношения национальных государственных суверенитетов и глобальных общечеловеческих императивов. Причем ведущие страны мира (такие, как США, Россия, Китай) в силу устойчивых социальных, культурных, политических традиций сегодня вновь откатываются к национальному государству. Это переход от ситуации мирочеловеческого бессмертия к ситуации, когда человечество после создания ядерного оружия стало смертным; от исчерпавшего свой потенциал развития классического капитализма (на Западе) – к некоему новому обществу, сущность которого и название которого пока довольно туманно именуют информационным, или постиндустриальным обществом; от общественной системы, только именовавшейся в СССР «реальным социализмом», – к новому, гуманному, демократическому обществу – обществу реального гуманизма; от ограниченного узкосоциального мышления – к ноосферному мышлению; от антагонизма либеральной и социалистической идеологий – к их сближению и конвергенции; от понимания прогресса как развития материальных производительных сил человечества – к пониманию прогресса как процесса очеловечивания мира и человека, освоения каждым индивидом всего богатства человеческой сущности.
Подробнее поговорим о некоторых рубежах. Речь идет о рождении принципиально нового субъекта мировой истории и о возникновении нового мира, в котором этому субъекту предстоит действовать по-новому, формулируя новые цели и идеалы, определяя новые средства их достижения. И в силу этого на место прежних установок должно прийти новое мировоззрение, основной императив которого – «очеловечивание человека и среды его обитания», т.е. мировоззрение, провозглашающее в качестве главной задачи «очеловечивание» (читай – гуманизацию), которое должно быть по праву названо гуманизмом, только «новым» гуманизмом (дабы отличить его от гуманизма «старого», традиционного). А основанную на этом мировоззрении стратегию, формулирующую цели деятельности современного человека, следовало бы назвать идеологией реального гуманизма.
В понятии «реальный (новый) гуманизм» фиксируется главная цель и главная ценность нового мирового и российского социума – человек. Речь идет в первую очередь об очеловечивании (гуманизации) деятельности людей, о ликвидации отчуждения человека от орудий его деятельности, от процесса и целей труда. Речь идет о превращении каждого человека в подлинного и всемогущего субъекта истории, о превращении хомо экономикус (т.е. экономического человека) в человека творческого – хомо креатор, в человека, перестающего быть придатком машины (при капитализме) или винтиком бюрократического механизма (при номенклатурных, псевдосоциалистических режимах). Речь идет о знаменитом – со времен Маркса – «скачке из царства необходимости в царство свободы», о превращении каждого индивида в состоянии «профессионального идиотизма» [Маркс 1955: 120] в универсально и всесторонне развитого человека.
Однако развитие технологий и интернет-сетей пока приводит скорее к закреплению хомо люденс – человека играющего [Хейзинга 2011], причем всех возрастов и во всех сферах человеческой деятельности. Основная идея концепции Й. Хейзинги состоит в том, что игра устанавливает порядок и сама же порядком является и что главное в игре – это соревновательность, что ярко проявляется в современных играх. Огромное число людей разных возрастов увлечены компьютерными играми (вплоть до игромании). Геймеры разных типов стали отдельной субкультурой с 2013 г. Сетевые сообщества и группы порождают погоню за лайками и подписчиками, делая любителей селфи практически зависимыми от оценок окружающих. А освобождение человека от рутины приводит к тому, что нехватка адреналина восполняется такими «играми», как экстремальные квесты, зацепинг, руфинг, что часто приводит к трагическим последствиям для участников.
Такой же игрой становится сфера политики, что сказывается и на международных отношениях. Вместо анализа проблем и их разрешения мы видим «игры» в санкции, отказ от сложившихся договоренностей по вооружению, военные игры. В те же игры играют журналисты, когда главным в профессии становится не правда и этика, а переход от симулякров Ж. Бодрийяра [Бодрийяр 2015] к постправде наших дней.
Новым мировоззренческо-идеологическим принципам в идеале суждено поглотить и растворить в себе все великие идеологические концепции прошлого, и среди них идеологии, в противоборстве которых прошли несколько последних столетий, – либерализм и социализм. По нашему убеждению, этот процесс пойдет через сближение, сопряжение, взаимопроникновение, конвергенцию этих великих (в прошлом) идеологий и завершится их преодолением, их «снятием» в лоне идеологии нового (реального) гуманизма, в практическом осуществлении нравственной политики.
Нравственная политика – политика, ограненная нравственностью, стремящаяся максимально для данных исторических условий минимизировать насилие. Нравственный политик – это тот, кто прекрасно понимает, что в современном обществе, где есть различия интересов, их антагонизм, нравственный импе- ратив, тем не менее, требует от него следовать девизу: «ненасилие насколько возможно, насилие насколько необходимо». Да и насилие в максимально мягких и гуманных для данного времени формах. Нравственная политика – та, что способствует всестороннему и универсальному развитию человека в качестве главного субъекта исторической практики, которая видит в человеке не подданного, а гражданина, обеспечивает культурное, социальное, политическое развитие людей, что является условием действительной свободы. Иначе говоря, нравственная политика есть синоним демократической и гуманистической политики. Однако в настоящее время по всему миру мы видим рост насилия как со стороны властей (экономическое давление на население), так и со стороны граждан в виде активных протестных движений – от экономических (Франция, Чили) до политических (Каталония, Боливия).
Вот основные императивы гуманистической политики – политики «с человеческим лицом».
Политический гуманизм – это стратегия социально-политической деятельности, которую можно назвать реальным гуманизмом. Это деятельность, направленная на расширение пространства свободы человека, социального равенства людей, на их материальное благополучие и культурное развитие. Гуманистическая политика – это политика подключенности каждого человека к участию в решении вопросов развития своей страны, своего общества, т.е. к политической «стратегии горизонтали». Стратегия горизонтали является стратегией, способствующей становлению и развитию институтов и структур гражданского общества, мобилизации усилий не только чиновничьего мира, но всего общества. Гуманизм этой стратегии раскрывается в полной мере в том, что люди перестают быть «винтиками» в социальной машине, управляемой бюрократией, перестают быть только исполнителями начальственной воли, а становятся деятелями и творцами. Следует только добавить, что стратегия горизонтали должна не противостоять «стратегии вертикали», а, напротив, дополнять ее: вертикаль способна обеспечить «диктатуру закона», а горизонталь – участие граждан в выработке этих законов и в массовом контроле за их исполнением.
Гуманистическая политика – это политика сокращения рабочего времени и роста свободного времени, и на основе этого – расширения пространства свободы для каждого индивидуума. Рост количества свободного времени людей и наполнение его богатым культурным содержанием – вот одна из главных черт политики реального гуманизма. Однако семья часто отключается от этого процесса, а современное образование порой просто загоняет подрастающее поколение в интернет-пространство, превращая все в игру: жизнь, смерть, убийство, самоубийство… А. Аузан отмечает, что у поколения Z , т.е. у родившихся в 2005–2006 гг., «вместо руки – смартфон. …сначала научаются работать на экране, а уже потом – говорить» [Аузан 2019]. Обилие информации порождает когнитивные искажения, а поскольку у подростков не всегда сформированы критерии отбора информации и принципы работы в сетях, в дальнейшем это существенно меняет интересы и ценности молодежи.
Гуманистическая политика – политика, обеспечивающая все основные свободы человека, политика идеологического плюрализма и самой широкой демократии. Гуманистическая политика на международной арене – это обеспечение единства разнообразного, это многополюсный мир. Следовательно, это политика нового, глобального мышления, заменяющая классовые критерии общечеловеческими; политика, которая направлена на кооперацию, объединение человечества при сохранении национальной идентичности и уважения к истории и культуре каждой страны, каждого народа.
Можно ошибочно считать, что гуманистическая политика должна заботиться в первую очередь не о будущих поколениях, а о ныне живущих, поскольку только свободно живущие и экономически процветающие нынешние поколения способны обеспечить благоприятную преемственность для поколений будущих. Однако мы видим много примеров в нынешней социальной практике, когда свобода порождает широкие массы людей, живущих для себя: это и «чайлдфри», порождающее в дальнейшем проблемы с демографией, а следовательно и с производством национального богатства; и антиэкологическое природопользование в угоду сиюминутному экономическому процветанию (США, Китай). Эти и другие проблемы отнюдь не обеспечат хорошую жизнь будущим гражданам, поэтому, улучшая жизнь нынешним поколениям, ни в коем случае нельзя забывать о будущем.
Говоря о гуманизации, необходимо понимать, что сейчас мы имеем дело с различными группами, имеющими свои социальные интересы, которые могут не совпадать с интересами «человека вообще». И главный вопрос – кто будет той социальной силой, которая станет продвигать сегодня эти интересы «человека вообще», т.е. неогуманизм. Какие факторы препятствуют ее формированию и развитию (внутри и вовне стран и политических систем, объективно и субъективно)? Будет ли это традиционный рабочий класс или средний класс? Без ответов на эти вопросы путь к неогуманизму окажется непростительно долгим.
Статья написана при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-03-00644-ОГН «Гражданский и религиозный типы общности в современном политическом процессе».
Список литературы Неогуманизм как ответ на вызовы ХХI века
- Аузан А.А. 2019. Цифровая экономика: человеческий фактор. Доступ: https://polit.ru/article/2019/06/25/auzan/ (проверено 20.01.2020)
- Бодрийяр Ж. 2015. Симулякры и симуляция. М.: Рипол-классик. 240 с
- Маркс К. 1955. Нищета философии. - Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.: Государственное издательство политической литературы. Т. 4. С. 65-185
- Хейзинга Й. 2011. Homo ludens. Человек играющий. СПб: Изд-во Ивана Лимбаха. 416 с