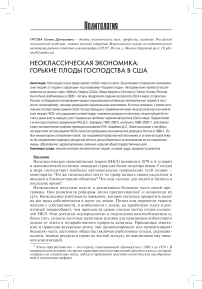Неоклассическая экономика: горькие плоды господства в США
Бесплатный доступ
Настоящая статья представляет собой главу из книги «За кулисами становления экономических теорий: от теории к коррупции» под названием «Горькие плоды». Авторами книги являются исследователи из разных стран: Мейсон Гэффни (США), Фред Харрисон (Англия) и Галина Титова (Россия). Книга была опубликована в 2000 г. Авторы предрекали падение авторитета США в мире; остерегали Россию от бездумного копирования чуждых национальным интересам экономических теорий (в частности, монетаризма), несущих разрушение национальным экономикам. В статье показано, к каким негативным последствиям привела США господствующая в современном мире неоклассическая экономическая теория (НКЭ): это ухудшение условий труда; снижение доходности капитала; концентрация богатства в руках власть имущих; рост социальных проблем; падение авторитета США в мире. Предисловие к книге подготовлено академиком РАН Д.С. Львовым (1930-2007), который в 1996-2002 гг. возглавлял отдел экономических проблем природопользования РАН. Академик Д.С. Львов рассказал о пагубных последствиях использования НКЭ в качестве проводника экономических реформ в России в 1990-х. Он был инициатором становления новой, так называемой нравственной, экономики, в основе которой лежало бы направление природно-ресурсной ренты в доход общества и использование ее на социальные нужды, образование, здравоохранение, военные и другие общегосударственные цели.
Неоклассическая экономическая теория, условия труда, доходность капитала
Короткий адрес: https://sciup.org/170199966
IDR: 170199966 | DOI: 10.31171/vlast.v31i3.9630
Текст научной статьи Неоклассическая экономика: горькие плоды господства в США
Неоклассическая экономическая теория (НКЭ) возникла в 1870-е гг. и царит в экономической политике западных стран уже более полутора веков. Сегодня в мире господствует наиболее ортодоксальное направление этой теории – монетаризм. Что же неоклассики могут по праву назвать своим наследием и вкладом в благосостояние общества? Что они сделали для людей и бизнеса в последнее время?
Неоклассики получили власть и реализовали большую часть своей программы. Они развенчали реформы эпохи прогрессивизма1 и опорочили их суть. Неоклассики уничтожили движение, которое пыталось превратить налог на все виды собственности в налог на землю. Потом они перенесли тяжесть налогов с собственности, в особенности с земли, на заработную плату и розничный товарооборот, чем превзошли самые смелые мечты отцов-создателей НКЭ. Они достигли «однородности» в подоходном налогообложении и, более того, создали льготные налоговые условия для присвоения избыточного дохода от земли и незаработанного прироста капитала. Присваивая земельную и природно-ресурсную ренту, они приватизировали или приватизируют большую часть достояния общества (включая рыболовные угодья, радиодиапазоны, водные ресурсы и право на чистый воздух), не выплачивая ему ника ких компен саций.
Неоклассики в значительной степени отказались от государственного регулирования тарифов на услуги коммунальной сферы и железных дорог и добились того, чтобы комиссии по регулированию монополий ушли из монополий, подлежащих такому регулированию. Приверженцы НКЭ покончили с устаревшей системой городского общественного транспорта, заменили прежнее ценообразование, базировавшееся на предельных издержках и дополненное налогообложением стоимости земли, на ценообразование по принципу средних издержек. Они предоставили банкам свободу, разрешив им выдавать кредиты на сделки с землей по спекулятивным ценам, а затем выручали их, когда те терпели неудачу.
Идеологи НКЭ свели к нулю результаты реформ избирательного права эпохи прогрессивизма, субсидируя политику и «глубокое лоббирование» (включая высшее образование), чтобы достичь главной цели Абрама Ньюитта1 – «сделать людей, равных по степени свободы, неравными в отношении собственности». Во имя «свободы выбора» они субсидировали земельных спекулянтов, расширив сферу общественных услуг во всех направлениях за счет простых налогоплательщиков, занимающих скромные участки земли. Они держат на голодном пайке среднее образование, которое служит всему обществу, и субсидируют высшее образование, которое служит лишь части общества. Рассмотрим более обстоятельно последствия длительного господства НКЭ.
Ухудшение условий труда
-
1. Доля труда в национальном доходе снижается, доля доходов от собственности растет. Несмотря на этот рост, сбережения населения и накопления капитала падают. Растущая доля дохода от собственности уходит к иностранцам.
-
2. Начиная с 1975 г. в США падает рост реальной заработной платы по некоторым профессиям. Все большей части американской молодежи приходится заниматься малопрестижными работами. Реальная зарплата мужчин со средним образованием упала с 1973 по 1991 г. на 21%, у людей с образованием ниже среднего – на 26%, у молодых чернокожих рабочих в городах – на 50%. Это заставило прийти на рынок труда женщин. Процент женщин, которые работают или ищут работу, возрос с 38 до 58. По мнению профессора Гарварда Дэвида Элвуда, именно это, а не система социального обеспечения является причиной роста числа неполных семей. У женщин стало меньше стимулов выйти замуж и оставаться в браке. На обстановку в стране в 1960–1970-х гг. положительно повлияло развитие системы социального обеспечения, однако с 1975 г. ее значение снижается.
Безработица достигла ужасающе высокого уровня. Неоклассики открещиваются от этой проблемы. «Естественный», или «нормальный», на их жаргоне, уровень безработицы возрос с 2 до 11%. Пока неоклассики у власти, то, что считается в цивилизованном обществе противоестественным, будет называться естественным. Повышение занятости, которое когда-то было поводом для праздника, теперь стало плохой новостью: неоклассики автоматически придерживают деньги, чтобы задавить этот процесс. «Не иметь работы – это дело профессионального вкуса, – на своем жаргоне заявляют некоторые неоклассики. – Чтобы объяснить, почему люди посвящают свое время... безработице, необходимо знать, почему они предпочитают ее всем другим видам деятельности». Другие же говорят, что безработные заняты выполнением важной экономической функции – «поиском работы».
Число бездомных бьет все новые рекорды, несмотря на десятилетия субсидирования жилищного строительства, которое создало благоприятный налоговый режим для жилищ, занимаемых владельцами, и чрезвычайное по своим масштабам направление национального капитала на строительство жилья. Проблема явно «не в производстве, а в распределении» – старое изречение неоклассиков, не выдержавшее проверку временем. Перепись населения в 1990 г. показывает, что в любой данный момент времени 10% всех жилых построек в США остаются пустыми, многие из них – это вторые-третьи и т.д. дома более богатых граждан. В богатом городке Ньюпорт Бич (Калифорния) самая высокая доля пустующих зданий. Что касается безработных, то в неоклассическом мире некоторым людям, видимо, просто «нравится» спать на теплых вентиляционных решетках под мостами, в картонных коробках и в подъездах. В парадигме мироустройства, предлагаемой неоклассиками, бездомные заняты важной экономической функцией – «поисками дома», которые они ведут каждый вечер, руководствуясь в этих поисках «рациональными ожиданиями»1. Либо так, либо «умственно неадекватных» иррациональность ставит вне рамок системы НКЭ.
Организация «Второй урожай» – общенациональная сеть продовольственных фондов – сообщает, что половина всех нуждающихся в помощи благотворительных кондитерских и пунктов раздачи бесплатного супа – дети, а 13% семей, которые они обслуживают, имеют доход ниже 10 тыс. долл. в год. Когда члены конгресса обсуждали закрытие программ чрезвычайной продовольственной помощи, они услышали от Роберта Ректора и фонда «Наследие» следующее заявление: «Не удивительно, что 10% американцев стоят в очереди на получение бесплатной пищи. Это совсем не означает, что они плохо питаются. Это означает, что чем больше социальной помощи предоставляется людям, тем больше уровень иждивенчества».
Что-то не было слышно, чтобы он и его фонд призывали к снижению налогов на заработную плату, которые наказывают людей за труд, или налогов с розничного товарооборота, которые наказывают кормильцев семей. Большинство неоклассиков поддерживает эти наказания и, присоединяясь к взглядам Ректора, «обвиняют жертву».
Нищенство, когда-то редкое явление, сейчас повсеместно распространено прямо посреди огромного богатства, капитала и новых технологий – главных атрибутов неоклассической панацеи о сокращении рабочих мест. Можете назвать это «прогрессом и бедностью», как когда-то сделал социальный реформатор Генри Джордж2, – попадете прямо в десятку.
Сегодняшний ответ неоклассиков на эти проблемы – снижение доли труда в основных видах промышленности с целью сделать их «тощее и злей». «Эффективность» и «производительность» стали отождествляться с сокращением производства и временным увольнением работающих. Предполагается, что в будущем это приведет к возникновению новых видов занятий, поскольку мы станем более «конкурентоспособными».
Снижение доходности капитала
Вместе со снижением доходов от труда ухудшаются и условия для роста капитала, выражающееся в следующем.
1. Доход по вкладам находится на традиционно низком уровне от влияния инфляции, и особенно после уплаты налогов.
Рост внутренних сбережений низок. Это предполагает высокий уровень потребления, который, по мнению Дж.М. Кейнса1 и иже с ним, должен нам помочь, но, похоже, это тоже ничего не дает для процветания общества – проблема, о которой неокейнсианцы умалчивают.
Рост иностранных сбережений в Японии и в Европе, поддержавших Штаты в 1980-е гг., также по всем признакам замораживается вслед за провалом японской «пузырьковой экономики» и наступлением экономического спада в Европе.
Американский капитал все больше устаревает, поскольку его обновление идет слишком медленно. США потеряли большую часть своей автомобильной и металлургической промышленности. Многие топливно-энергетические предприятия и нефтеперерабатывающие заводы устарели и загрязняют окружающую среду. Большая часть общественной инфраструктуры обветшала, а замена ее стоит дорого из-за чрезмерной рассредоточенности. Нью-Йорк, сумевший в 1902 г. ввести в действие подземку, которая стоила 5 центов за проезд на любое расстояние, теперь не может обслуживать и содержать в нормальном эксплуатационном состоянии действующие линии метро, и это при том, что плата за проезд настолько высока, что многие люди ее с трудом выкраивают.
Финансовая система США в полном беспорядке и держится только за счет того, что переваливает свои безнадежные долги, измеряющиеся сотнями миллиардов долларов, на плечи налогоплательщиков.
Дальнейший рост концентрации богатства и доходов
Большая часть национального дохода уходит на приобретение собственности. Это очень хорошо видно из того, как резко подскочила в трудовом измерении цена земли, приобретаемой для жилищного и коммерческого использования. Например, чтобы купить ферму, в 1954 г. требовалось выложить суммарный заработок за 6 лет работы в промышленности, а в 1987 г. – уже за 17 лет работы. Если же измерять эти цены годами фермерского труда, то они были бы гораздо выше – как раньше, так и в настоящее время.
Что касается городского жилья, то Калифорнийская ассоциация риелторов регулярно публикует «Индекс доступности». Он показывает долю семей, которые могут позволить себе купить дом по средней цене. Данные свидетельствуют о снижении этой доли на 20% и расходовании 30% дохода на ежемесячные выплаты по 30-летним закладным. В ноябре 1990 г., по данным «Индекса», только 32% семей могли бы позволить себе купить дом по средней в США цене 130 тыс. долл. (это означает кредитный долг в 104 тыс. долларов, выплаты в размере около 11 тыс. долл. в год, что предполагает годовой доход около 37 тыс. долл.).
В 1980-е гг. новых высот достиг процесс слияний, хотя много раз было доказано, что слияния ведут к снижению выпуска продукции, большим простоям, снижению числа рабочих мест и росту отчуждения между работодателями и обществом. Для всех очевидно, что «вложение капитала» в слияния и покупку одного предприятия не создает для других ни нового богатства, ни новых капиталов, ни новых рабочих мест.
Число американских ферм с 1920 по 1990 г. снизилось с 6 млн до 1 млн, в то время как население увеличилось. В 1900 г. на 11 американцев приходилась одна ферма, в 1987 г. – одна на 113. В то же время коэффициент Джини1 среди сохранившихся фермеров поднялся с 0,57 в 1910 г. до 0,76 в 1987. Можно внести поправку в коэффициент Джини на снижение числа ферм, прибавив недостающие 5 млн ферм к общим данным, считая их фермами с нулевой площадью земли. В этом случае в 1987 г. коэффициент будет равным 0,92 вместо 0,76.
Доход также стал более концентрированным, но коэффициент Джини по концентрации дохода гораздо ниже, чем тот же коэффициент по владению собственностью какого бы то ни было вида. Соответственно, его рост гораздо меньше. Причина кроется в том, что большая часть дохода (по расчетам статистиков НКЭ) состоит из валового потока заработанной трудом наличности.
Современный процесс «огораживания» общественных ресурсов быстро прогрессирует. Морские рыболовные угодья, еще недавно открытые для всех, приватизируются через лицензирование и продажу квот на право лова рыбы. Наверно, лицензирование необходимо, чтобы избежать чрезмерного использования ресурсов, однако нет никакой необходимости в раздаче новых лицензий и квот на право вылова, как это сейчас делается. Часть бывших рыбаков мгновенно стали миллионерами, живя в праздности и роскоши и продавая свои лицензии в аренду работающим рыбакам. Это внезапно создало новое классовое расслоение там, где раньше все имели равные возможности.
Те, кто загрязняет воздух, вместо того, чтобы платить штраф, соответствующий их доле загрязнения, получают «квоты на загрязнение», которыми они могут свободно торговать. «Лакомые куски» радиодиапазона раздаются направо и налево. Сорокалетние контракты на право получения ирригационной воды от федеральных проектов превращены в право бессрочной частной собственности. Первые получившие это право могут продавать его другим – тем, кто больше заплатит. Эти «невинные» владельцы первых контрактов получают не просто воду, а вечное право требовать от государства субсидии на хранение, доставку и поддержание качества воды.
Национальные парки передаются частным концессионерам (некоторые из которых выбираются по политическим мотивам), взимающим за вход столько, сколько выдерживают кошельки посетителей, выплачивая при этом чисто символическую ренту обществу, которое и является истинным владельцем парков. Права на разработку шельфовых месторождений нефти и газа продаются на аукционах частным арендаторам, и этим процессом, по-видимому, небескорыстно управляют и манипулируют крупные нефтяные фирмы. В некоторых маргинальных районах государственная лесная служба тратит на прокладку дорог 10 долларов на каждый доллар дохода от леса. Все эти потери, все то, что было остановлено прогрессивистами, вернулось обратно в полном объеме под громкие приветственные крики «новых ресурсных экономистов», пропитанных идеями НКЭ.
Социальные проблемы, которые ранее считались решенными
Американцы испытывают недостаток чувства общности. При НКЭ остается мало места для этого. Предполагается, что государственные служащие руководствуются тем же самым – собственным интересом. Тот, кто думает по-другому, для неоклассиков либо дурак, либо лицемер.
Такая философия обладает самодостаточностью. Еще немного, и они будут считать себя болванами и слабаками, если сделают что-то на благо общества. Эпитет «героический» на жаргоне НКЭ является упреком, а взятка считается делом рациональным и похвальным. Продать свою страну, по меркам неоклассиков, не так уж плохо, это даже предполагается. В результате в США есть конгрессмены в отставке, без зазрения совести лоббирующие интересы иностранных государств. Более того, есть и действующие конгрессмены, представляющие интересы иностранных государств: разве НКЭ не учит, что индивидуумы должны служить тем, кто им платит? Национальные сокровища продаются чужакам, оборонные секреты продаются иностранным шпионам, все это оправдано высокими гонорарами. В конце концов, может, «предельная производительность» (одно из базовых понятий НКЭ) украденного бомбардировщика сослужит бóльшую службу военно-воздушным силам Ирака, чем американским.
Лозунг апологета НКЭ Гекко Гордона «жадность – это хорошо» стал основой неоклассического мировоззрения. Гордон считается новым мессией. Церковь неоклассики пока еще терпят, однако только до тех пор, пока она сосредоточивает свои усилия на спасении отдельного человека. Заботу о благе общества НКЭ исключает. Почти все, что является общественным или общим, вызывает подозрение – государственные школы, государственное здравоохранение, общественный транспорт, парки, пляжи, государственный мониторинг мер и весов, государственный контроль продуктов и лекарств, общие права граждан, общественная безопасность, общественные туалеты, социальное обеспечение умственно отсталых, общественные водные ресурсы, общественные земли, сфера услуг связи, государственные коммунальные службы, государственное теле- и радиовещание, государственное финансирование избирательных кампаний и т.д.
Раньше богатые жили полностью на виду, в большом доме на главной улице. Они щеголяли богатством и злоупотребляли властью, но они смотрели на других и брали на себя некую ответственность за свои города и принимали участие в управлении ими. Они были в одной лодке с своими квартиросъемщиками, в общем с ними городе.
Теперь же классовое разделение подкрепляется пространственной сегрегацией, что следует универсальному рецепту НКЭ: «голосуем ногами» (а вернее, колесами). Богатые «кучкуются» в эксклюзивных предместьях и поселках, огороженных заборами с закрытыми воротами, или переезжают жить в богатые анклавы в Аспене, Ла Джолла или Палм Бич. Им даже не приходится видеть тех, кого они обирают, общение происходит исключительно через биржевых маклеров, агентов и наемных полицейских.
Отчуждение стало нормой, резко взлетел уровень преступности. Праздные руки не просто потеряны для общества, они воруют, разрушают, убивают и жгут. Люди и собственность все время подвергаются опасности. Совокупные затраты на охрану граждан от нападений, воровства, поджогов, вандализма, вымогательства, присвоения чужих денег и иных больших и малых преступлений составляют значительную часть национального дохода. Сочетание демократических форм с разделяющей людей системой распределения богатства и аллергией неоклассических лидеров на проблему полной занятости делает преступление наиболее привлекательной сферой приложения усилий миллионов американцев, несмотря даже на то, что, как правило, жертве преступление обходится намного дороже, чем от него выигрывает преступник.
Одиночные преступления легко перерастают в преступления толпы, которую толкает на это какое-нибудь драматическое событие, реальное или воображаемое. В 1992 г. были подожжены целые кварталы Лос-Анджелеса, второй раз на протяжении одного поколения. Такие колоссальные потери и варварство являются прямым следствием политики НКЭ, которая отчуждает от общества огромные массы трудоспособных людей, не имеющих работы.
В пространстве между законопослушным бизнесом и криминалом сегодня располагается огромное поле теневой экономики. Уклонение от налогов – это способ выжить для бедного человека. Однако при высоком уровне налогов на производство и продажу, на заработную плату и доходы многие предприниматели могут выжить только аналогичным способом. Уличные торговцы стремятся уйти и от налогов, и от высокой арендной платы. Но уж если раз преступил закон, следующие незаконные шаги совершить намного легче. Яркий пример этому – торговля наркотиками, постепенно превратившаяся в мощную отрасль с хорошо развитой системой поддержки и со своей «наркократией». Не связанные ни с арендной платой, ни с налогами высокотранспортабельные наркотики – это естественный выход для тех, кого политика неоклассиков толкнула на дно.
Быстрое падение авторитета США в мире
Когда-то самодостаточные США попали в опасную зависимость от импорта сырья. Эта зависимость столь высока, что стала объектом вымогательства «союзников» по ОПЕК. До некоторой степени это оправдывается простой выгодой от торговли, на что и ссылаются идеологи неоклассиков. Однако есть и кое-какие другие, менее достойные причины. Одна из них заключается в том, что политика неоклассиков навязала США самую энергозатратную, ресурсозатратную модель заселения земель в истории человечества.
Под влиянием идеологических установок и налоговой политики промышленность и сельское хозяйство в настоящее время полностью ориентированы на замену труда капиталом и землей. Капиталу и земле все больше требуется энергетических ресурсов (нефть, газ, уголь и пр.) для замены ими труда.
Американские земельные спекулянты, особенно после Второй мировой войны, пользуясь раскинутым над всем миром американским «военным зонтиком» как прикрытием, тихо приобрели права на месторождения полезных ископаемых в других странах – где только можно. Следуя в фарватере теории Дж.Б. Кларка1 и руководствуясь его утверждениями о том, что богатство создается «путем простого присваивания ограниченных даров природы», они получают сверхдоходы от использования природных ресурсов (которые в противном случае были бы для них просто бесполезными). Затраты на удерживание «военного зонтика» США над миром легли главным образом на плечи простых американских налогоплательщиков в виде налогов на заработную плату. После утверждения своих прав новые владельцы ресурсов за рубежом преподнесли еще один «подарок» обществу, увеличив тем самым нашу привязанность к иностранным источникам ресурсов.
Всем известно, что США, когда-то лидировавшие в мире по показателям производства и благосостояния граждан, теперь отстают по многим основным показателям от европейских стран. В число этих показателей входят уровень государственного здравоохранения, детская смертность, продолжительность жизни, уровень грамотности, умение считать, охват населения спортивными мероприятиями, уровень заработной платы, психическое здоровье и т.д. Эти выводы сделаны, конечно, в результате межличностных сравнений, которые были «совершенно неудовлетворительными» и в свое время «вычищены» из НКЭ. Однако свидетельствует ли это о том, что они ничего не значат? Возможно, скорее именно НКЭ и ее критерий благосостояния не имеют смысла в цивилизованном и справедливом обществе.
США, недавний властелин мира, начали движение вспять к тому состоянию, в каком они были в XIX в., – к экономической колонии. Иностранные владения увеличиваются в административных и культурных центрах США и вообще везде, где земля приносит высокую ренту и где она облагается низкими налогами. В постпрогрессивистской культуре право собственности имеет больше политической власти, чем гражданство, и в некоторых регионах уже непонятно, имеют ли граждане как таковые столько же политического веса, сколько иностранные землевладельцы. К примеру, в современной Калифорнии есть много ирригационных районов, облеченных иммунитетом суверенных административных территорий, в которых реальная власть принадлежит землевладельцам, и вес их голосов на выборах пропорционален размерам земельной собственности.
Поражение правых на выборах в Греции, Литве, Польше и России в 1993– 1994 гг. показывает, что нынешняя модель НКЭ, импортируемая МВФ и Всемирным банком, проигрывает даже в сравнении с коммунизмом, причем даже в тех странах, где известна его худшая сторона. Государственное устройство США уже далеко не так привлекательно, чтобы отчаявшиеся народы жаждали более всего другого принять его за модель для подражания.
Американское образование утрачивает статус ведущего в мире. Приватизированное образование в форме коммерческого телевидения, пользуясь полной свободой орудовать в общественной сфере для получения частной выгоды, во многом подменило государственное образование. Теоретиков НКЭ это должно радовать, но вот что удивляет: наша культура нищает. Государственные школы поощряют чтение Джейн Остин и Чарльза Диккенса, они, по крайней мере, пытаются учить также и математике. Телевидение несет насилие, убийства, мыльные оперы, автогонки, наркотики, алкоголь, воровскую «феню», бульварные новости, обрывки речей и выступлений, антологию половых извращений. В этом, с точки зрения неоклассиков, нет ничего страшного, поскольку телевидение подчиняется суверенной воле потребителя и вносит наибольший вклад в совокупный национальный продукт. Государственные школы и библиотеки не вызывают доверия уже потому, что они государственные. Государственные библиотеки зачастую служат общественными туале- тами для бомжей. Государственные институты получают обвинения за все интеллектуальные просчеты, порожденные обществом и экономикой, в которых царствуют НКЭ и ее ценности.
На вопрос, чего же за последние годы добилась страна, руководствуясь постулатами НКЭ, может быть один ответ: это ухудшение условий труда, снижение доходности капитала, высокая, постоянно растущая концентрация богатства и доходов, усиление разобщенности классов и рост социальных проблем, падение авторитета страны в мире. Пожалуй, этого достаточно, чтобы понять, что неоклассическая экономика, наспех состряпанная когда-то в противовес учению Генри Джорджа и его последователей, интеллектуально, морально и практически обанкротилась.