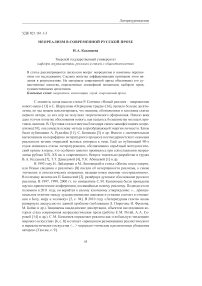Неореализм в современной русской прозе
Автор: Казанцева Ирина Александровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются дискуссии вокруг неореализма и намечены перспективы его исследования. Сделана попытка дифференциации признаков этого явления в ретроспективе. На материале современной прозы обоснованы его существенные качества, определяемые спецификой концепции, выбором героя, художественными средствами.
Неореализм, композиция, герой, современная проза
Короткий адрес: https://sciup.org/146122008
IDR: 146122008 | УДК: 821.161.1-3
Текст научной статьи Неореализм в современной русской прозе
С момента, когда вышли статьи Р. Сенчина «Новый реализм – направление нового века» [13] и С. Шаргунова «Отрицание траура» [16], прошло больше десятилетия, но мы можем констатировать, что явление, обозначенное в заголовке статьи первого автора, до сих пор не получило теоретического оформления. Начало века дало толчок попытке обоснования нового, как казалось большинству молодых критиков, явления. В. Пустовая стала известна благодаря своим манифестациям неореализма [10], она увидела основу метода в преображающей энергии личности. Затем были публикации А. Рудалёва [11], С. Белякова [3] и др. Вместе с окончательным вытеснением на периферию литературного процесса постмодернистского освоения реальности возник очередной всплеск интереса к теме. Ещё до публикаций 90-х годов появились статьи литературоведов, обозначивших серьёзный методологический кризис в науке, что особенно заметно проявилось при сопоставлении неореализма рубежа XIX–XX вв. и современного. Вопрос тщательно разработан в трудах В. А. Келдыша [7], Т. Т. Давыдовой [4], У. К. Абишевой [1] и др.
В 1993 году Н. Лейдерман и М. Липовецкий в статье «Жизнь после смерти, или Новые сведения о реализме» [8] писали об исчерпанности реализма, о смене этических и онтологических координат, называя новое явление «постреализмом». В полемику включился П. Басинский [2], развёрнув духовное обоснование русского реализма. В 1997, 1999, 2000 гг. по инициативе С. М. Казначеева были проведены научно-практические конференции, посвящённые новому реализму. Подводя итоги полемики в 2011 году, он вернётся к своему ключевому утверждению: «…принци-пиальное отличие между художественными школами и стилями состоит в отношении к Богу, миру и человеку» [5, с. 94]. В 2010 году «Литературная газета» вновь развернула дискуссию по данной проблеме (публикации Л. Пирогова, И. Фролова, М. Бойко и др.). Защищены кандидатские диссертации, объектом исследования которых стала современная неореалистическая проза (работы Е. М. Ротай, А. А. Серовой [14] и др.). С. М. Казначеев определяет реализм как «глобальную тенденцию мирового искусства» [6, с. 8] и считает «принципом размежевания реалистического и нереалистического искусства <…> морально-этические и религиозные убеждения авторов» [Там же, с. 9].
Фундаментальная работа С. М. Казначеева иллюстрирует новую проблему. Если «позиционирование реализма» состоит «не столько в последовательном стремлении к соответствию художественного творения правде жизни, сколько в нравственном императиве, заключающемся в уважении действительности и преклонении художника перед жизнью как таковой, как перед высшей Идеей, манифестирующейся в нашей жизни, перед человеком, являющимся средоточием тайны бытия, сконцентрированной в одной личности» [Там же], то как быть с условностью искусства, соотношением внелитературных и литературных фактов?
Обратимся к конкретике. Большинство критиков называют в числе лучших книг 2009 года повесть Р. Сенчина «Елтышевы». Автор тщательно фиксирует падение некоей типичной семьи, вернувшейся из-за потери квартиры и работы в деревню. Опрокинут воспетый почвенниками дом, ради которого совершается предательство. Валентина со странным спокойствием встречает весть о пропаже тётки Тани. Сцена подготовки к смерти тётки описана исключительно натуралистично, но ничего нового не открывает в человеке после «Последнего срока» В. Распутина. Только ли в мере таланта здесь причина, в онтологических основаниях авторов, измельчании души человеческой? Если у В. Распутина отношение к тайне человеческого ухода – это боль-мука, когда нельзя просто зафиксировать, приукрасить, унизить, то у Р. Сенчина нет тайны в уходе, а нагромождение смертей притупляет их восприятие. Когда разрушаются основания Дома, души, для В. Распутина остаётся фундамент, большие смыслы, которые исключают натурализм. Сюжетное движение повести «Елтышевы» происходит за счёт детального воспроизведения физиологических действий. История списана автором, как он утверждает, с ещё более безнадежной трагедии, типичной для России. Неореализм ли перед нами? Об измельчании и деградации в современной литературе сказано немало. В каких формах обобщения, в каких индивидуальных стилевых находках проявлены новые качества метода? Возникает в сознании бывшей библиотекарши Валентины образ храма, но она не знает, зачем возрождать его на месте сгоревшего клуба. Когда события в жизни Артёма ведут его к безрадостному браку, ненужной формальностью становится указание на Пасху. В прошлой стабильной реальности как ожидание чуда описывается мечта о богатом клиенте, попадающем в вытрезвитель. Р. Сенчин воссоздаёт характеры, лишенные нравственного основания. Онтологический фундамент в такой концепции мира размыт, человек лишён стержня, сюжет вял. Складывается впечатление, что достижения натуральной школы вынуты из бабушкиного сундука, чтобы описать бытовые реалии современной деревни.
Но вот ещё более скудная реальность, в которой каждая строчка повествования рождает новый осмысленный пласт бытия. Рассказ неореалиста старшего поколения М. Тарковского «Енисей, отпусти». Реалистическая история Прокопи-ча, наделённого даром любить мир. Скрупулёзно описан однообразный быт, но за всем этим – попытки сказать важное о подобии Божьем в человеке. Вступлением задается онтологический уровень, позволяющий воссоздать целостность мира и человека и дающий возможность увидеть все частности как детали общего замысла, придающего осмысленность человеческим поступкам. М. Тарковский пишет: «Глаз человеческий так устроен, что враз один только кусок жизни видать, и если стоять на берегу реки или океана, то углядишь лишь воды сизую полосу, да камни, да ржавый винт, да домишко с дымом, да еще что-нибудь заскорузло-простое, вроде ведра или лопаты. А бывает, во сне ли, в какой другой дороге так от земли оторвёт, что аж жутко станет, как глянешь вниз – сначала будто облачка пойдут, потом забрезжит что-то промеж них, а дальше присмотришься – и вся махина памяти разворачивается, будто плот, и куда ни ступи – всё живей живого, и одинаково важно каждое брёвнышко, а вовсе не то, что последним подцепил» [15]. Р. Сенчин начинает повесть «Елтышевы» так: «Подобно многим своим сверстникам, Николай Михайлович Елтышев большую часть жизни считал, что нужно вести себя по-человечески, исполнять свои обязанности и за это постепенно будешь вознаграждаться. Повышением в звании, квартирой, увеличением зарплаты, из которой, подкапливая, можно собрать сперва на холодильник, потом на стенку, хрустальный сервиз, а в конце концов и на машину» [12].
В романе о чеченской войне и мире З. Прилепина «Патологии» чувствуется влияние Л. Толстого, окопной и лейтенантской прозы, но в сержантской прозе (А. Колобродов) акценты расставлены иначе. Отношение к войне обозначено заглавием, с первых строк погружаемся в историю, воспринятую через сквозную деталь: «Проезжая мост, я часто мучаюсь одним и тем же видением. <…> Святой Спас стоит на двух берегах. На одной стороне реки – наш дом. Мы ежесубботне ездим на другую сторону побродить меж книжных развалов, расположившихся в парке у набережной. <…> Мою правую руку держит мой славный приёмыш, трёхлетний господин в красной кепке и бутсах, обильно развесивших белые пухлые шнурки. <…> Мы знакомы уже полтора года, и он уверен, что я его отец» [9, с. 7]. Далее повторами «меня мучает видение» усиливается напряжение, после которого дано описание аварии и чудесного спасения малыша. История любви главного героя, его командировка в Чечню показаны уже через призму заданного смысла, который противостоит и легкомысленности «дочеченского» быта героя, и трагедии войны. Обессмыслить человеческое существование таким характером повествования уже невозможно. В чрезвычайных и обыденных обстоятельствах показан человек, который творит мир, согретый теплотой всеобщего родства.
М. Тарковский и З. Прилепин позволяют читателю воспринимать единые смыслы через деталь, выход в пространство сна-яви-видения. У героя Р. Сенчина нет почвы как судьбы, нет родины как ощущения всеобщего родства. Не складываются отношения Николая Елтышева со старшим сыном, невозможно восстановление рода через обретение внешнего сходства в сыне Артёма. Герой М. Тарковского не может принять в новой жене злобного неродственного отношения к его сыну от предыдущего брака. Тип повествования М. Тарковского и З. Прилепина позволяет выстроить произведение таким образом, что твердь, обретаемая верой (не обязательно конфессионально маркированной), формирует концепцию мира и человека.
Главный герой повести С. Шаргунова «Птичий грипп» Неверов внедряется в современные политически ангажированные молодёжные движения, чтобы добиться их подконтрольности власти. Есть у героя и собственная цель, которой мотивируется его выбор в жизни, – изучение феномена веры. Метафоризация реальности вызывает у исследователей сомнения в чистоте метода (А. А. Серова). Зооморфные образы нагнетают общий мотив расподобления видимости и сущности. Обретение веры обязательно сопряжено с действием, но для главного героя оно становится преступлением. С. Шаргунов в своём творчестве исходит из актуальных событий современности, выстраивая увлекательный сюжет и отображая героя переходного времени.
Художественные средства, используемые современным неореализмом, так же широки, как и на рубеже XIX–XX вв., и дополнены игровой стихией постмо- дернизма. Творческая индивидуальность реализуется в игре смыслами постмодернизма, но без релятивизма последнего. Основу концепции неореализма составляют запечатленные почвенниками ценности семьи, почвы, рода. Они существуют как идеальная модель: смятенный человек греховен, но не уродлив, поскольку создан «по образу и подобию Божию», жизнь не бессмысленна, отсутствует смещение масштаба целого и частного. При этом не поколенческий критерий, но антропоцентризм объединяет разных авторов неореалистической направленности, а в области поэтики наблюдается художественная полемика с постмодернизмом, поскольку неореализм в современной прозе во многом возник как реакция на постмодернизм. Для объективного анализа тенденций современной прозы очевидна необходимость реставрации философско-религиозной основы мировоззрения, выбор наиболее жизнеспособной концепции реализма, разграничение реализма как метода, течения, стиля, типа мировоззрения. Важно обозначить генетические связи между творчеством писателей разных веков. Ближайшей задачей является необходимость анализа эстетических отношений между творчеством авторов, причисляемых к современному неореализму, обоснование внутривидового размежевания реализма как феномена культуры.
Tver State University the Department of Journalism, Advertising and Public Relations
Об авторe:
КАЗАНЦЕВА Ирина Александровна – доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью Тверского государственного университета (171100, Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: irina10768@ mail.ru.
About the author:
Список литературы Неореализм в современной русской прозе
- Абишева У. К. Неореализм в русской литературе 1900-1910-х годов: дис. … докт. филол. наук: 10.01.01/У. К. Абишева; Ин-т мировой литературы РАН. М., 2006. 396 с.
- Басинский П. Возвращение //Новый мир. 1993. № 11. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1993/11/basin.html. (Дата обращения: 17.07.2016.)
- Беляков С. Новые Белинские и Гоголи на час//Вопросы литературы. 2007. № 4. С. 77-94.
- Давыдова Т. Т. Русский неореализм: Идеология, поэтика, творческая эволюция. М.: Флинта; Наука, 2011. 329 с.
- Казначеев С. М. Новый реализм: очередное возрождение метода//Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, психология. 2011. № 4. С. 91-95.
- Казначеев С. М. Феноменология русского реализма: генезис, эволюция, регенерация: автореф. дис. … докт. филол. наук: 10.01.08/С. М. Казначеев; Литературный ин-т им. А. М. Горького. М., 2014. 38 с.
- Келдыш В. А. Реализм и неореализм//Русская литература рубежа веков (1890е -начало 1920-х годов): в 2 кн. Кн. 1. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. С. 259-335.
- Лейдерман Н., Липовецкий М. Жизнь после смерти, или Новые сведения о реализме //Новый мир. 1993. № 7. URL: http://magazines. russ.ru/novyi_mi/1993/7/litkrit.html. (Дата обращения: 01.07.2016.)
- Прилепин З. Патологии. М.: Ад Маргинем Пресс, 2009. 336 с.
- Пустовая В. Новое «я» современной прозы об очищении писательской личности//Новый мир. 2004. № 8. С. 153-173.
- Рудалёв А. Письмена нового века//Октябрь. 2006. № 2. С. 176-182.
- Сенчин Р. Елтышевы //Knijky.ru. URL: http://knijki.ru/books/eltyshevy. (Дата обращения: 11.05.2016.)
- Сенчин Р. Новый реализм -направление нового века //Пролог. 2001. № 3. URL: http://ijp.ru/razd/pr.php?failp=00104600067. (Дата обращения: 10.05.2016.)
- Серова А. А. Новый реализм как художественное течение в русской литературе XXI века: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01/А. А. Серова; Нижегородский гос. ун-т. Нижний Новгород, 2015. 290 с.
- Тарковский М. Енисей, отпусти //RoyallLib.com. URL: http://royallib.com/book/tarkovskiy_mihail/enisey_otpusti.html. (Дата обращения: 06.02.2017.)
- Шаргунов С. Отрицание траура//Новый мир. 2001. № 12. С.179-184.