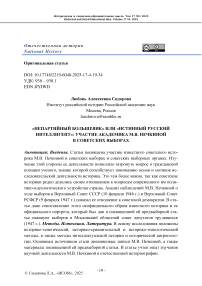«Непартийный большевик» или «истинно русский интеллигент»: участие академика М.В. Нечкиной в советских выборах
Автор: Сидорова Л.А.
Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 4 т.17, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Статья посвящена участию известного советского историка М.В. Нечкиной в советских выборах и советских выборных органах. Изучение этой стороны ее деятельности позволило затронуть вопрос о гражданской позиции ученого, знание которой способствует пониманию основ и мотивов исследовательской деятельности историка. Это тем более важно, так как советские историки редко делились своим отношением к вопросам современного им политико-идеологического устройства страны. Анализ наблюдений М.В. Нечкиной о ходе выборов в Верховный Совет СССР (10 февраля 1946 г.) и Верховный Совет РСФСР (9 февраля 1947 г.) показал ее отношение к советской демократии. В статье дано сопоставление этого неофициального образа известного историка и ее официального портрета, который был дан в посвященной ей предвыборной статье накануне выборов в Московский областной совет депутатов трудящихся (1947 г.). Методы. Источники. Литература. В основу исследования положены историко-генетический, историко-сравнительный и историко-типологический методы, в также методы интеллектуальной истории и исторической антропологии. Основным источником стали дневниковые записи М.В. Нечкиной, а также материалы посвященной ей предвыборной статьи. В статье учтен опыт изучения научной деятельности М.В. Нечкиной в отечественной историографии.
Историческая наука, поколения историков, научность, политика, идеология, советская избирательная система, демократия, М.В. Нечкина
Короткий адрес: https://sciup.org/149149348
IDR: 149149348 | УДК: 930 – 930.1 | DOI: 10.17748/2219-6048-2025-17-4-19-34
Текст научной статьи «Непартийный большевик» или «истинно русский интеллигент»: участие академика М.В. Нечкиной в советских выборах
Введение.
Жизнь и научная деятельность выдающегося отечественного историка академика Милицы Васильевны Нечкиной (1899–1985) привлекает внимание многих современных исследователей. Предметом изучения становятся не только созданные ею труды, но и сама ее разносторонняя личность, отмеченная глубоким интересом к философии и психологии, истории и социологии, искусству и художественной литературе. В статьях затрагиваются вопросы взаимоотношений М.В. Нечкиной и М.Н. Покровского [1; 2; 3], освещается начало профессионального пути историка [4; 5; 6], вклад в создание советского декабристоведения и изучение творчества В.О. Ключевского [7; 8; 9], дается общий очерк ее научноисследовательской деятельности [10; 11; 12; 13]. М.В. Нечкиной как историку отечественной исторической науки посвящена диссертация [14] и очерк в коллективной монографии [15]. Научной деятельности и личности Милицы Васильевны посвящены две монографии, каждая из которых дает свой образ историка и человека [16; 17]. Большой вклад в изучение творчества М.В. Нечкиной внесли фундаментальные документальные публикации, включающие в себя не только колоссальный объем документов – дневники, переписку, поэтическое творчество и прочие материалы, но и обстоятельные вступительные очерки [18; 19; 20].
Отдельные вопросы восприятия М.В. Нечкиной советской выборной системы уже затрагивались автором ранее [21]. Задачей настоящей статьи является попытка сопоставить два портрета выдающегося историка – официальный и неофициальный, которые возникают при изучении дневниковых записей М.В. Нечкиной, сделанных по свежим впечатлениям от участия в выборах, и анализе посвященной ей предвыборной статьи. Если в первом случае Милица Васильевна предстает в образе «истинного русского интеллигента»1 – пожелание, которое она в молодости однажды категорически отвергла, то во втором она вполне укладывалась в формат «непартийного большевика».
Обсуждение.
В дневнике Милица Васильевна рассказала о своем участии в выборах в Верховный Совет СССР (10 февраля 1946 г.) и Верховный Совет РСФСР (9 февраля 1947 г.). Первая, в несколько строк, запись от 3 февраля 1946 г. была связана с впечатлениями М.В. Нечкиной от агитационной предвыборной работы, которую она выполняла в качестве «доверенного лица1 Фрунзенского избирательного округа» [19, с. 659] г. Москвы.
В субботу и воскресенье, за неделю до тех выборов, она выступала на предвыборных агитационных собраниях своего района. М.В. Нечкину поразила обстановка в одном из домов ее избирательного участка, в котором ей было поручено провести беседу с жителями, и то, как выглядели пришедшие послушать ее люди. «Беднота! Трущоба» [19, с. 364], – записала она в дневнике. Судя по дальнейшим рассуждениям, ее интересовал вопрос о степени принятии народом действующей власти, о мере его искренности по отношению к ней.
Этот вопрос интересовал М.В. Нечкину не теоретически. Она во многом решала его для себя лично и одновременно заявляла о своей гражданской позиции. Это видно из записи, сделанной ею год спустя. В ней на нескольких страницах было изложено ее мнение о выборах 1947 г. и «о наших выборах вообще» [19, с. 365].
10 февраля 1947 г. Милица Васильевна вернулась домой только в пять часов утра после подсчета голосов на избирательном участке. В полдень она раскрыла свой дневник, «чувствуя необходимость и перед собой, и в порядке памяти» обобщить полученные впечатления, «не преследуя цели все записать связно и стройно». Однако, по ее словам, «основное и так будет понятно» [19, с. 365].
Приступив к анализу, М.В. Нечкина сразу же провела четкое разграничение между формой и содержанием выборов в высшие органы советской власти как явления социально-политической жизни СССР. «Наши выборы, – утверждала она, – не являются выборами в обычном западноевропейском или, положим, американском смысле слова», подразумевая состязательность выборного процесса за рубежом. Для нее было очевидным, что «нельзя “выбирать” из одного кандидата» [19, с. 365].
Столь же бесспорным был для нее тезис, что «из несоответствия слова явлению, конечно, не может же следовать осуждения явления». Милица Васильевна, основываясь на своем профессиональном и гражданском опыте, была убеждена, что исторически советская действительность сложилась так, что словом «выборы» стали обозначать «очень интересное, очень большое и неизменно существующее явление, которое не соответствует слову “выборы”». «Мы просто взяли условно ходовое западноевропейское слово» [19, с. 365], – заключила она.
Отстаивая право советских выборов на существование, М.В. Нечкина предложила образное, но точное сравнение. Отрицание советской выборной системы, по ее мнению, было бы столь же неразумным, как «было бы глупо разбивать чернильницу с красными чернилами и охаивать всячески красные чернила на том основании, что “чернила” не могут же быть красными , раз они “ чернила ”»
[19, с. 365]. В предложенном образе все, даже сама колористика, имела большую смысловую нагрузку. Ведь не случайно эта гипотетическая чернильница была наполнена красными чернилами, а не синими или, к примеру, фиолетовыми. Именно красный цвет прочно ассоциировался с революционными символами и советской властью.
Развивая свою мысль, Милица Васильевна утверждала, что «говорить, что наши “выборы” плохи, смешны, являются “издевательством” и прочее, глупо, ибо это “вывод” не из анализа явления по существу, а из “словарного” смысла слова, это уже в плохом смысле лингвистика, а не история» [19, с. 365]. Тем самым она обнаружила не только собственную позицию в данном вопросе. Стало очевидным, что в ее окружении высказывались суждения, отрицавшие существовавшую избирательную систему. Но, отказываясь от огульной критики выборов, она тем не менее была далека от идеализации последних. Ею был сделан смелый и даже рискованный в условиях тех лет вывод, что советские выборы – это «утверждение народом кандидата, предложенного диктатурой» [19, с. 365]. М.В. Нечкина констатировала, что выборами «вертели» райкомы и вышестоящие партийные организации, что избирательные окружные комиссии были «сбоку припека» [19, с. 365, 367].
В данном ею определении выборов важно отметить две стороны. Во-первых, М.В. Нечкина охарактеризовала сталинскую систему власти как диктатуру. В этой оценке проявилось ее личное отношение к политикоидеологическим реалиям тех лет, афиширование которого было чревато тяжелыми последствиями. Во-вторых, она заострила внимание на проблеме власти и народа, его роли как субъекта, легитимировавшего советскую власть.
М.В. Нечкина связывала существование этого «условно называемого выборами явления» со сложных комплексом исторических причин, среди которых особо выделила внешнеполитический фактор. «Мы живем в военном лагере, мир расколот на два мира, и форма, держащаяся десять лет, очевидно, имеет корни и исторически целесообразна» [19, с. 365], – писала она. Но главный акцент был ею сделан на том, что возникновение и сохранение данной формы политической жизни произошло « с безусловного согласия народа» [19, с. 365]. Попутно заметим, что преклонению перед историческим выбором народа, укоренившемся в российской интеллигенции с народнических времен, Милица Васильевна также отдавала дань.
Делая прогнозы о жизнеспособности такого типа волеизъявления, М.В. Нечкина не ограничила его хронологически, хотя и не считала неизменным и вечным: «Оно, возможно, исчезнет и заменится чем-либо другим, – предполагала она и назвала условие, при котором такое стало бы возможным: когда этого захочет народ» [19, с. 365].
Таким образом, ключевую роль в сохранении как факта, так и смысла советской выборной системы М.В. Нечкина отвела народу. «Пока народ на это со- гласен, одобряет эту форму, и она полна большого содержания, – полагала Милица Васильевна и подчеркивала: – Народ желает участвовать в управлении страной именно пока вот в такой форме» [19, с. 365]. Этот тезис она вывела из собственных наблюдений: 12 декабря 1937 г., на первых выборах в Верховный Совет СССР, она дежурила на одном из избирательных участков у кабин, 26 июня 1938 г., на первых выборах в Верховный Совет РСФСР, «сидела на списках избирателей как активист и принимала, таким образом, частичное участие в выдаче бюллетеней». На последующих выборах, состоявшихся уже после Великой Отечественной войны, уровень ее участия в выборном процессе существенно повысился. 10 февраля 1946 г., на выборах в Верховный Совет СССР, она была доверенным лицом, 9 февраля 1947 г., на выборах в Верховный Совет РСФСР – членом окружной избирательной комиссии Арбатского округа г. Москвы.
Краеугольным камнем всех ее построений стал вопрос о том, насколько выбор народа был свободным. Декабрьские выборы 1937 г. не вызвали у нее сомнения в соблюдении этого условия. Процедура голосования, предусматривавшая наличие не только бюллетеней, но и конвертов для голосования, которые заклеивались избирателями после того, как бюллетени были ими в них вложены, предполагала необходимость для каждого избирателя заходить в кабину для голосования. Она позволяла, по мнению Милицы Васильевны, сохранить тайну выбора человека, так как «голосует ли он за или против, в кабине было дело: заклеить бюллетень в конверт, если он за, зачеркнуть имя и заклеить конверт, если он против» [19, с. 367–368].
Однако со следующих выборов конвертов уже не стало, что создало, считала М.В. Нечкина, совершенно иную ситуацию, ставившую под угрозу соблюдение их тайны. Поэтому «уже в последний день в субботу 8-го февраля», «проведя в гражданской тоске бессонную ночь», она снова «бросилась на участки проверять обеспеченность тайны голосования» [19, с. 366]. Это были избирательные участки, находившиеся в академических институтах и Библиотеке имени В.И. Ленина. Обнаруженные ею мелкие дефекты, могущие нарушить тайну голосования, М.В. Нечкину не встревожили. Но одно обстоятельство привело ее в смятение, грозя разрушить все предыдущие логические построения. Она столкнулась с ситуацией, когда представители районных комитетов партии давали директивы, прямо наносившие ущерб тайне голосования. Так случилось, к примеру, на заседании Окружной избирательной комиссии Арбатского округа, на котором она присутствовала. Милица Васильевна, продолжая заботиться о свободе волеизъявления, обратилась к ее председателю с вопросом – « обязателен ли для избирателя заход в кабину» [19, с. 367].
Данный ей ответ заставил ее усомниться в тайне, а следовательно, и в свободе предстоявших выборов: «Ну, конечно же, не обязателен! А если кто продемонстрировать хочет, что он за? Идет торжественно с бюллетенем – и прямо опускает? Вот и хорошо. А то еще зайдет в кабину, увидит карандаш, подумает, что-то же надо с этим карандашом делать – и зачеркнет кандидата – тогда что?» Впечатление от услышанного было усилено тем удивлением, с которым на нее посмотрели все остальные участники заседания, изумленные ее непониманием столь очевидных для всех вещей. «Как будто я не знаю, что дважды два – четы-ре»[19, с. 367], – резюмировала М.В. Нечкина.
Сложившаяся ситуация невероятно расстроила Милицу Васильевну. «После всего этого я прямо сделалась больна», – сетовала она. Основное положение выстроенной ею концепции, примирившей ее с существовавшей политической системой, – «чтобы изменить данную форму, ныне принимаемую народом, народу достаточно провести 5-сантиметровую карандашную черточку (разумеется, в кабине!)» – заколебалось. В отсутствии непреложности прохождения к урне для голосования через кабину свобода выбора гражданина оказывалась под угрозой, думала М.В. Нечкина. Воображение живо нарисовало ей картину выборов, долженствовавших состояться на следующий день. Она «с ужасом пришла к выводу, что завтра поток разделится на 2 явные струи – голосующие за или не заходящие в кабину и голосующие против, т.е. заходящие в кабину» [19, с. 368].
М.В. Нечкина полагала, что человеку, намеревавшемуся проголосовать «за», «в кабине ровно ничего не надо делать и заходить в кабину незачем», так как «прочесть три слова, написанные на бюллетене (кстати, слова ему давно известные), он успевает, не отходя от стола, за которым ему выдали бюллетень, а сложить бюллетень или, не складывая, держать в руке, чтобы опустить в урну – для этого в кабину заходить не надо» [19, с. 368]. В итоге абстрактная логика подвела М.В. Нечкину к выводу, что «в кабину надо заходить только голосующему против », то есть «тайна выборов летит к чертям», а это уже было, по ее мнению, «чудовищным нарушением конституции» [19, с. 368].
В воскресенье, 9 февраля 1947 г., она пошла на участки «в очень угнетенном состоянии», полагая, что «участвует в комедии, в обмане». Все ее внимание было сосредоточено на вопросе: «реально, разделится ли поток на две зрительные струи – за или против?» «Логически – так должно было быть, – не сомневалась М.В. Нечкина и далее, удивленная, признала: – Но практически так не было » [19, с. 368]. Ход голосования, оказавшийся отличным от ее гипотетических ожиданий, оказал на нее успокаивающее воздействие: «У меня прямо как гора с плеч свалилась» [19, с. 369]. Не подтвердились ее опасения, что народ голосует под влиянием страха. «Заходили спокойно и безбоязненно», – еще раз повторила она, добавив, что люди не предполагали, что «заход в кабину истолкуют как голосование против» [19, с. 369].
Подытоживая свои впечатления как историк, М.В. Нечкина пришла к выводу, что в ходе выборов 1947 г. тайне голосования был «нанесен огромный ущерб» и только «первые выборы более или менее гарантировали ее» [19, с. 369]. Ее окончательный вывод гласил: «Отсюда все-таки отстаиваю свое положение: если бы народ захотел не утвердить предложенного ему кандидата и изменить даже форму, у нас установившуюся, ему достаточно для этого провести 5-сантиметровую карандашную линию в той кабине, куда он не боится заходить. Кажется, не трудно!» [19, с. 370]
Таким образом, высказанная М.В. Нечкиной идея «5-сантиметровой карандашной линии» как индикатора правомерности и исторического обоснования советской системы выборов в ее реальном воплощении устояла и сохранила для нее свой смысл. Отмеченные Милицей Васильевной особенности избирательного процесса не стали для нее основанием к отрицанию его демократичности.
В том же 1947 г. М.В. Нечкина была избрана депутатом в Московский областной совет депутатов трудящихся и вошла в состав его постоянной комиссии по народному образованию и культуре. По своему профилю эта общественная деятельность совпадала с ее профессиональными занятиями, позволяя ей не только проявить свои незаурядные организаторские способности, но использовать также огромный опыт ученого и преподавателя, популяризатора исторического знания.
В качестве члена этой комиссии М.В. Нечкина принимала участие в целом ряде обследований в Московской области по вопросам выполнения закона о всеобщем обязательном обучении, о состоянии школьного дела, о постановке библиотечной работы и т.д. Особое внимание Милицы Васильевны было отдано проблеме предупреждения второгодничества. Материалы, которые она собирала в ходе этих обследований, составляли основу для ее докладов в комиссии по народному образованию и культуре. Подготовленные М.В. Нечкиной вопросы обсуждались затем на заседаниях Исполкома Московского областного совета1.
Общественная работа отнимала у нее много времени и сил. Это отразилось даже в обрывочных дневниковых записях начала 1950-х годов. Краткие пометки от 1950 г. остановились, например, на таких строках: «Со 2 февраля по 2 апреля (!) не писала по случаю невероятной перегрузки. Выборы в Верховный Совет. Областной комитет. Обследования библиотеки ФБОН. Аспиранты! Дипломники! АОН, текущая работа» [19, с. 371]. Из них видно, что научноисследовательскую работу в Институте истории АН СССР и преподавательскую в Академии общественных наук при ЦК КПСС, профессором которой Милица Васильевна была более 10 лет с момента ее создания в 1946 г., она сочетала с деятельностью по организации выборного процесса и работой в Мособлсовете.
В конце своего первого депутатского срока М.В. Нечкина была вновь выдвинута кандидатом в депутаты Московского областного совета депутатов трудящихся. К этому периоду относится посвященная ей большая газетная публикация, помещенная на втором развороте «Вечерней Москвы» от 15 декабря 1950 г. в рубрике «Кандидаты сталинского блока коммунистов и беспартийных». Она была озаглавлена «Выдающийся историк». Ее авторами были коллеги Ми- лицы Васильевны по Институту истории АН СССР – Н.М. Дружинин, в то время член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат Сталинской премии, С.Л. Утченко, доктор исторических наук, профессор, и А.М. Станиславская, кандидат исторических наук1.
Рядом на газетном развороте – статьи о других кандидатах в депутаты, людях самых разных специальностей. В них рассказывалось о рабочих и служащих, деятелях культуры, среди которых были такие именитые театральные режиссеры и актеры театра и кино, как Ю.А. Завадский, Н.П. Охлопков, Р.Н. Симонов, О.Н. Андровская, Е.Н. Гоголева и др. Примечательно, что только три очерка сопровождались фотографиями: «Знатный каменщик» – о В. Королеве, строителе новых жилых корпусов на Песчаной улице в Москве, «Лучшая телеграфистка страны» – о сотруднице московского телеграфа А.Г. Минаковой и о М.В. Нечкиной.
Посвященный М.В. Нечкиной очерк, в котором освещалась ее научноисследовательская, преподавательская и общественная деятельность, можно с полным на то основанием рассматривать как ее официальный портрет на фоне эпохи. Поэтому особенно интересно проанализировать его основные черты и сравнить с «непарадными мыслями», которые она высказала в своем дневнике.
Очерк открывался определением места историка в избранной ею отрасли знания. «Имя Милицы Васильевны Нечкиной, – говорилось в нем, – известно в самых широких кругах советской общественности. Крупный историк, лауреат Сталинской премии, действительный член Академии педагогических наук, профессор М.В. Нечкина является одним из наиболее ярких представителей того поколения русских ученых, которое с первых лет революции связало свою судьбу с советской наукой и отдало ей все свои силы и знания».
Определив генерационную принадлежность М.В. Нечкиной как историка-марксиста, авторы очерка перешли к характеристике основных вех ее трудовой биографии. Они подчеркнули, что научная деятельность Милицы Васильевны «началась рано: уже в двадцатилетнем возрасте она была преподавателем рабфака Казанского университета». Затем были отмечены дальнейшие профессиональные ступени, которые она преодолевала уже как выпускница Института красной профессуры: «Через четыре года М.В. Нечкина – к тому времени сложившийся, самостоятельный ученый – была утверждена доцентом 2-го Московского университета, и еще через десять лет получила ученое звание профессора по кафедре истории СССР. К этому времени Милица Васильевна была уже автором 50 печатных трудов. За выдающиеся научные достижения ей присудили ученую степень доктора исторических наук. Сейчас перу М.В. Нечкиной принадлежит более 160 научных работ».
Подчеркивалось, что круг ее научно-исследовательских интересов был широк и разнообразен. «Неутомимый исследователь в области русской общественной мысли и революционного движения, она немало потрудилась и над углубленной разработкой истории русской культуры», – говорилось в очерке.
Рассказ о сердцевине научных трудов М.В. Нечкиной – ее работах по истории движения декабристов – был начат с упоминания об опубликованной ею в 1927 г. монографии «Общество соединенных славян» [22]. Подчеркивалось, что Милица Васильевна впервые в отечественной историографии обстоятельно, на основе введенных ею в научный оборот документов «осветила историю этого наиболее революционного крыла декабристов».
Далее речь шла о вышедшей спустя двадцать лет, в 1947 г., монографии М.В. Нечкиной «А.С. Грибоедов и декабристы» [23]. Эта книга была названа «выдающимся достижением советской исторической науки и советского литературоведения, примером подлинно патриотического научного творчества». Подчеркивалось, что за этот труд М.В. Нечкина была удостоена Сталинской премии. Биографический очерк, написанный в период антикосмополитической кампании, не мог не иметь соответствующей моменту риторики. Его авторы представили своего кандидата как «непримиримого борца с буржуазным объективизмом и космополитизмом в исторической науке». Исходя из этого посыла было охарактеризовано и основное содержание монографии: «М.В. Нечкина беспощадно разоблачает созданную буржуазной историографией легенду о Грибоедове как либерале-одиночке и воссоздает подлинный исторический образ великого русского писателя – представителя декабристской идеологии, непосредственно связанного с декабристами».
Однако в тексте самой монографии акценты были расставлены иначе. Милица Васильевна подробно и обстоятельно проанализировала работы своих предшественников, в той или иной степени затрагивавших интересовавшую ее тему. Подытоживая, она писала: «Значение избранной темы общепризнано и прежними течениями передовой науки. Но, тем не менее, исследование коснулось лишь частных компонентов темы (арест, история следствия, отношения к отдельным декабристам). Тема в целом является неизученной и стоит на очереди» [23, с. 62]. Задачу своего исследования М.В. Нечкина видела в воссоздании на основе первоисточников исторической среды и атмосферы, которая окружала А.С. Грибоедова, и «посильном уяснении идейного генезиса комедии» [23, с. 62–63].
В предвыборном биографической очерке были названы работы М.В. Нечкиной, посвященные социальным мыслителям А.Н. Радищеву, Н.Г. Чернышевскому, Н.А. Добролюбову как представителям русского освободительного движения. Также рассказывалось, что Милица Васильевна трудится над капитальным трудом, посвященным движению декабристов, который «подводит итоги ее многолетним изысканиям в этой области».
Авторы очерка остановились также на участии М.В. Нечкиной в подготовке учебных пособий, особо отметив учебник для вузов по истории СССР под ее редакцией, вышедший вторым изданием в 1949 г. [24]. Во втором томе учебника – «Россия в XIX веке» – она была также автором глав по истории декабризма и идейной борьбе 1830–1840-х годов.
Подчеркивалась работа М.В. Нечкиной как лектора – профессора Московского государственного университета и Академии общественных наук при ЦК ВКП(б) и историка-пропагандиста, выступавшего перед разнообразными аудиториями, в том числе в воинских частях, с научно-популярными, патриотически заостренными лекциями во время Великой Отечественной войны. В очерке говорилось, что «ее лекции могут служить примером сочетания теоретической глубины и высокого идейно-политического содержания с блестящей, оригинальной формой», упоминалась деятельность М.В. Нечкиной как члена президиума Общества по распространению политических и научных знаний.
В очерке перечислялись и прочие направления ее общественной работы и делался вывод, что «профессор Нечкина – настоящий ученый-общественник». Этот тезис пояснялся: «Она член Центрального комитета союза работников высшей школы и научных учреждений и Московского областного комитета этого профсоюза. Тов. Нечкина энергично участвует в борьбе трудящихся за мир, против поджигателей войны. В 1949 и 1950 гг. Милица Васильевна участвовала во всесоюзных конференциях сторонников мира». Было отмечено, что многообразная научно-педагогическая и общественная деятельность М.В. Нечкиной получила высокую правительственную оценку – награждение Орденом Трудового Красного Знамени.
Подытоживая свой рассказ о М.В. Нечкиной – кандидате в депутаты, Н.М. Дружинин, С.Л. Утченко и А.М. Станиславская назвали ее «непартийным большевиком», что прозвучало в нем совершенно органично.
Теперь попробуем сравнить два образа Милицы Васильевны: официальный, созданный на страницах газеты, и приватный, возникающий при чтении приведенных выше суждений историка о советской выборной системе, и попытаемся понять, противоречили ли друг другу эти два образа.
На первый взгляд, они отличались разительно, как отличался бы парадный портрет, писаный маслом на фоне классического для изображения ученого интерьера с множеством книг и бумаг, от простого черно-белого наброска пером или карандашом в рукописном домашнем или личном альбоме. Но это только на беглый взгляд. В обоих случаях возникает прежде всего образ ученого, увлеченного своими научными изысканиями и неравнодушного к судьбам страны. В дневниковом варианте на первый план выступает умение М.В. Нечкиной по- дойти к анализу общественной ситуации как исследователя, непредвзято, взвешенно и даже несколько отстраненно, проверяя свои предварительные суждения и опасения конкретными фактами, свидетелем которых она сама была.
Проецируя предложенную Милицей Васильевной концепцию «5-сантиметровой карандашной черточки» на ее профессиональную деятельность, можно констатировать, что лежавший в ее основании посыл – позиция народа есть мерило исторической целесообразности – находился в одной плоскости с самоопределением историка в советской исторической науке. Служение марксистской исторической науке отвечало гражданским представлениям М.В. Нечкиной.