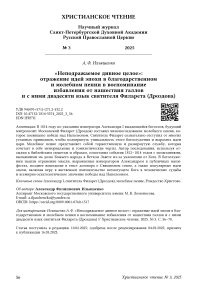«Неподражаемое дивное целое»: отражение идей эпохи в благодарственном и молебном пении в воспоминание избавления от нашествия галлов и с ними двадесяти язык святителя Филарета (Дроздова)
Автор: Ильяшенко А.Ф.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Практическая теология
Статья в выпуске: 3 (114), 2025 года.
Бесплатный доступ
В 1814 году по указанию императора Александра I выдающийся богослов, будущий митрополит Московский Филарет (Дроздов) составил чинопоследование молебного пения, которое посвящено победе над Наполеоном. Святитель Филарет сознательно отступил от многих уставных принципов, чтобы подчеркнуть уникальность этого богослужения и выразить идеи царя. Молебное пение представляет собой торжественную и развернутую службу, которая сочетает в себе мемориальные и гомилетические черты. Автор последования, используя отсылки к библейским сюжетам и образам, сопоставил события 1812–1814 годов с испытаниями, выпавшими на долю Божьего народа в Ветхом Завете из-за уклонения от Бога. В богослужении нашли отражение мысли, выраженные императором Александром в публичных манифестах, позднее вошедшие в текст договора о Священном союзе, а также популярные идеи эпохи, включая веру в явственное вмешательство всемогущего Бога в человеческие судьбы и всемирноэсхатологическое значение победы над Наполеоном.
Александр I, святитель Филарет (Дроздов), молебное пение, Рождество Христово
Короткий адрес: https://sciup.org/140312292
IDR: 140312292 | УДК: 94(470+571)+271.2-532.2 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_3_56
Текст научной статьи «Неподражаемое дивное целое»: отражение идей эпохи в благодарственном и молебном пении в воспоминание избавления от нашествия галлов и с ними двадесяти язык святителя Филарета (Дроздова)
В 1814 г. ректор Санкт-Петербургской духовной академии, будущий святитель, известный богослов и московский митрополит Филарет (Дроздов) составил уникальную церковную службу «в воспоминание избавления от нашествия галлов и с ними два-десяти язык». Несмотря на то что это «Последование благодарственного и молебного пения» попадало в поле зрения исследователей [Ванюков, 2002; Демина, 2013; Демина, 2018], отдельные работы, посвященные этому богослужению, отсутствуют, как и его целостный анализ.
Создание церковных чинопоследований и текстов в связи с военными и политическими достижениями не было внове для Русской Православной Церкви. При Петре I были составлены тексты благодарственных служб на победу при Полтаве во время Северной войны и на заключение мира со шведами в 1721 г. В торжественном и ликующем тоне службы в честь полтавской победы «слышны трубы и литавры победного марша, композиции придворного витии, невоздержанно применяющего события Священной истории к обстоятельствам и лицам современной ему эпохи» [Спасский, 2008]. Сочинитель этих текстов архиепископ Тверской и Кашинский Фео-филакт (Лопатинский) не постеснялся сравнить императора Петра с ап. Петром и уподобить его Иисусу Христу, а в стихирах и других частях богослужения ветхозаветные события прямо сравниваются с военными и политическими достижениями императора. Слова «Христос — Помазанник» употребляются применительно к Петру Великому, а гетман Мазепа сравнивается с Иудой. Использование этих сравнений продолжает более раннюю традицию (см.: (Феофан Прокопович, 1718, 10; Феофан Прокопович, 1717, 8)). Благодарственная служба на заключение мира со Швецией более сдержанная по тону, зато император Петр дополнил ею празднование памяти св. кн. Александра Невского. Таким образом, в день памяти покровителя новой столицы империи также читались и пелись богослужебные тексты с благодарением за мир и прославлением воинства русского и его предводителя императора.
В противовес пышным барочным службам, для которых были написаны отдельные стихиры и переиначен пасхальный канон и другие древние церковные тексты, ставшие основой новых канонов, а также отказавшись от прямых сравнений императора с ветхозаветными святыми, свт. Филарет создает более сдержанное произведение, в котором, тем не менее, достаточно отсылок к библейским событиям. Следует подчеркнуть, что, в отличие от благодарственных богослужений нач. XVIII в., которые включают весь дневной цикл изменяемых песнопений и текстов, таких как каноны, стихиры, седальны и др., служба, посвященная победе над Наполеоном, представляет собой отдельное достаточно краткое молебствие, которое предписано было совершать после литургии в праздник Рождества Христова. К настоящему времени последование этого молебного пения подверглось в богослужебных книгах существенным изменениям и сокращениям по сравнению с тем, что составил свт. Филарет.
Историю эволюции чинопоследования помогают понять документы из архива Св. Синода. Вскоре после возвращения в Россию в 1814 г. из зарубежного похода с войсками, а затем путешествия в Бельгию и Англию император Александр подписал именной указ Св. Синоду «О установлении празднества Декабря 25, в воспоминание избавления Церкви и Державы Российския от нашествия Галлов и с ними дванаде-сяти язык» (ПСЗРИ, 1830, 905–906). Нелишним будет заметить, что указ подписан 30 августа — в день празднования перенесения мощей блгв. кн. Александра Невского и обретения мощей его сына св. кн. Даниила Московского. Именно в этот день по приказанию Петра Великого, помимо памяти святых, совершалась «Служба благодарственная Богу, в Троице Святей славимому, на воспоминание заключенного мира между державою Российскою и короною Свейскою» (Минея, 2002).
В указе императора Александра поясняется причина выбора дня Рождества Христова: поскольку в этот день в 1812 г. царским манифестом было возвещено об изгнании неприятеля с русской земли. Затем упоминается поход в Европу, во время которого другие народы, воодушевленные поражением Наполеона в России, присоединялись к русским войскам в качестве союзников и вместе разбили противника и подписали «всеобщий мир» в Париже. В конце мотивировочной части указа содержится объяснение установления нового праздника: «Толь чрезвычайное происшествие, как избавления России, так и спасения всей Европы, благостию и милосердием Всемогущего Промысла совершившееся, налагает на Нас благоговейный долг учреждением во всем пространстве Области Нашей всеобщего празднества и благодарения Спасителю Богу предать память о сем грядущим временам в роды родов. Сего ради, призывая к тому всю Православную Церковь, учреждаем и постановляем…» (ПСЗРИ, 1830, 905–906). Таким образом сформулирован царский «заказ» и намечено направление идей, отражение которых хотел видеть в молебном пении император. Для составителя нового богослужения это определяло круг тем и источников, используемых в чинопоследовании молебного пения. Само содержание указа включает три постановления: учреждение празднования, совершение после обычной службы особого благодарственного молебствия с коленопреклонением при чтении молитвы, указание весь день звонить в колокола.
В один день с указом опубликован царский манифест, составленный государственным секретарем адмиралом А. С. Шишковым, о наградах участникам войны 1812 г. и Заграничных походов, различных льготах для подданных царя. В начале манифеста также упоминается новый праздник, установленный «для принесения Всемогущему Богу теплых и усердных молитв за избавление Державы Нашей от лютого и сильного врага, и в прославление в роды родов сего совершившегося над Нами промысла и милости Божией» (ПСЗРИ, 1830, 906–907).
Уже 31 августа, то есть на следующий день после получения, Св. Синод рассмотрел царский указ и поручил синодальным членам сочинить новую молитву для празднования и изменить название праздника в церковном месяцеслове. По мнению прот. Г. Добронравова, все члены Св. Синода приняли на себя задачу составить свой текст молитвы, чтобы затем при сравнении выбрать лучший из представленных вариантов на общем собрании. Также из последующих документов синодального делопроизводства ясно, что проследование молебствия целиком было поручено сочинить митрополиту Новгородскому и Петроградскому Амвросию (По-добедову) (см.: [Добронравов, 1913, 574]), который передал эту задачу ректору СПбДА архим. Филарету (Дроздову) (см.: [Кузнецов, 1915, 210]). Составленная им служба была одобрена митрополитом, затем чинопоследование рассматривалось Св. Синодом 21 и 28 сентября, и уже 6 октября 1815 г. оно было передано через обер-прокурора кн. Голицына на утверждение императору Александру. Синодальные члены могли без императорского разрешения принимать новые богослужебные тексты и последования, но предпочли получить соответствующую санкцию царя. Таким образом, вся служба была составлена архим. Филаретом менее чем за три недели и затем дорабатывалась еще в течение двух недель с участием членов Св. Синода. Только 3 января 1816 г. последование молебного пения было возвращено в Св. Синод, а 10 января обер-прокурор объявил о соизволении императора на печать и распространение последования с учетом внесенных правок.
Первоначальный вариант службы, который отправил на утверждение царю Св. Синод, имел от итогового небольшие отличия. В частности, по приказанию Александра I в конце молебного пения к многолетию императору и царской семье было добавлено многолетие воинству. Наиболее существенным изменением, которое сделал царь, стало чтение одной паремии вместо трех, как было предложено архим. Филаретом (см.: [Добронравов, 1913, 576]). В качестве паремий будущий святитель предложил отрывок из Четвертой книги Царств (4 Цар 19:20–22, 27–28), из Откровения ап. Иоанна Богослова (Откр 19:11-16) и из пророчества Исаии (Ис 14:13-17, 24-27). В первой из паремий содержатся слова Господа о царе Ассирийском, который порицал и поносил, возвышал голос на Святаго Израилева, т.е. на Самого Бога (см. подр.: [Библия, 2008, 491] ) , за что стал посмешищем для «девствующей дщери Сиона». В тексте переданы слова Господа к царю Ассирии о том, что за его дерзость он будет остановлен и возвращен назад, причем для передачи этой мысли использован образ вьючного животного.
Из воспоминаний кн. А. Н. Голицына и его переписки с императором Александром известно, что последний в 1812 г. по совету князя стал читать Евангелие (см.: (Рассказы, 1886, 87)), а затем перешел к чтению Ветхого Завета и Откровения ап. Иоанна Богослова. Причем со временем именно ветхозаветные и апокалиптические тексты стали особенно близки императору и в них он находил особенно ценные для себя образы. Отрывок из Апокалипсиса в первом варианте чинопоследования — новозаветная паремия, что редко можно встретить в церковном богослужении. В этом тексте говорится о Втором пришествии на белом коне и с воинством небесным Верного и Истинного, т. е. Спасителя, который праведно судит и воинствует . Это образ Бога-Судии во всей Его силе, которой Он может поражать народы, сражающиеся на стороне антихриста, и управлять ими. Таким образом, Откровение напоминает о воздаянии и Страшном суде. Это «праведное воздаяние хищности и насилию» (Собрание, 1816, 147), — слова, использованные А. С. Шишковым (Шишков, 1870, 231) в царском известии о сражении при Лейпциге, когда объединенные силы союзников с перешедшими на их сторону саксонскими войсками в «битве народов» нанесли поражение Наполеону.
Завершается паремия словами «На одежде и на бедре Его написано имя: „Царь царей и Господь господствующих“». С точки зрения толкователей, эти слова напоминают о человеческой природе Христа и Его господстве. Относительно же эпохи Александра I на ум приходят слова известного французского роялиста и политического деятеля барона Эжена Витроля, написавшего после встречи с российским императором о нем: «Император Александр, царь царей, объединившихся для спасения мира» (Vitrolles, 1830, 119). Хотя мемуары барона были опубликованы только в 1830 г., отношение к Александру I как к монарху монархов Европы было распространенным, и автор чинопоследования не мог этого не знать.
В опубликованном в 1816 г. для общего употребления чине была оставлена только третья паремия из пророчества Исаии, но само чинопоследование сохранило сложную структуру и разнообразное содержание.
Итак, «Последование благодарственнаго и молебнаго пения ко Господу Богу, певае-маго в день Рождества Спасителя нашего Иисуса Христа и воспоминания избавления церкве и державы российския от нашествия галлов, и с ними двадесяти язык» (Последование, 1816) было издано в 1816 г., оно совершается после Божественной литургии в центре храма, перед иконой Рождества Христова. Обращает на себя внимание уже начальный возглас священника: «Слава Святей и Единосущной и Животворящей и Нераздельной Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков». Этот возглас в Православной Церкви используется в начале всенощного бдения или в начале утрени, а для молебнов употребляется обычно более простой обиходный возглас «Благословен Бог наш…» Использование возгласа, адресованного Святой Троице, с одной стороны, придавало службе большую торжественность, а с другой стороны — могло восприниматься как отсылка к дипломатической формуле, предварявшей договоры европейских монархов, — «Во имя Пресвятой и Неразделимой Троицы» (см. об этом: [Ванюков, 2002]). За «обычным началом» (молитва «Царю Небесный» и прочие молитвы до «Приидите поклонимся») следует известное песнопение «С нами Бог», которое состоит из слов прор. Исаии (Ис 8:9–10, 12–14, 17, 18; 9:2). Его появление в этом месте, по мысли исследователя церковного устава прот. Сергея Ванюкова, связано с праздником Рождества Христова, поскольку само пророчество относится к пришествию Мессии, а также повторяет состав песнопений в Книге молебных пений, в последовании молебного пения «во время брани противо супостатов» (см.: [Ванюков, 2002]). Содержание песнопения «С нами Бог» — ликующее перечисление опасностей и угроз, от которых спасает Господь, прославление Его могущества и сил. Стоит отметить, что словами «С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь» к Александру I обратился московский викарий архиепископ Дмитровский Августин (Виноградский)1, когда император входил в Успенский собор Московского Кремля 12 июля 1812 г.
(см.: [Шильдер, 1897, 90]). За пением «С нами Бог» следует троекратное «Аллилуйя» и мирная (великая) ектения, в которую добавлены особые прошения:
О еже… приятися сей жертве сердец и устен, исповедующихся Господеви в день спасения, услышавшему нас в день печали, Господу помолимся.
О еже благосердием и милостию призрети на благочестивейшего императора нашего и победоносное царство его, полагающих победные венцы к подножию ногу имущего языки достояние свои и одержание свое концы земли, Царя царем и Господа господем, тому вси припадше помолимся.
О еже даровати нам благодать от ныне и до века, верою и любовию возвещати спасение, и силу, и царство Бога нашего, и область Христа Его, подавшему державе его [императора] силу, и воздавшему нам радость спасения Своего…
В этих прошениях благодарственное моление устремлено к Богу, подателю всех благ в ответ на просьбы христиан, к ногам Которого приносит император и вся его страна свои трофеи. В то же время упоминается, что именно Бог владеет всеми народами (языками), и Он — Царь царей, т. е. стоит над всеми монархами и правителями. В ектении есть и прошение вечно возвещать о Божественной помощи императору.
Следующая часть последования также содержит необычные для церковного богослужения особенности. После «Бог Господь» поется не тропарь Рождества Христова, а стихира из утрени праздника по 50-м псалме и стихира, написанная специально для этого молебна (см.: [Дебольский, 1894]). Обе стихиры, заменяющие тропари, начинаются со слов «Слава в вышних Богу и на земли мир» и заканчиваются ими же с добавлением «и в человецех благоволение». Таким образом, свт. Филарет играет смыслами, подчеркивая рождественский характер службы и в то же время прославление установления мира после победы над Наполеоном. Вселенский характер мира (в смысле покоя и отсутствия вражды), который воцарился во время рождения Спасителя Христа, здесь семантически связан с миром, установленным Александром и его союзниками, и через эту связь действиям союзных монархов придается и сакральный, и вселенский масштаб. Если в стихире из утрени речь идет об онтологическом примирении между человеком и Богом2, то в следующем за ним вновь сочиненном архим. Филаретом богослужебном тексте понятие мира может быть сужено до победы в войне, в честь которой установлен праздник:
…се бо Агнец Вифлеемск льва и змия нами поправ, миру мир дарова. Тем со Ангелы Младенцу миродержавному боголепну славу принесем…
Смысл этого тропаря-стихиры может пониматься двояко. Более прямое понимание означает, что посредством русской армии и народа (нами) Агнец-Христос победил врага (льва и змия) и даровал мир вселенной, за что Ему приносится благодарение3. Смысл иного толкования более обобщенный, но и по нему прослеживается аллегория с конкретной победой. За довольно распространенными гимнографическими образами Христа-Агнца, родившегося в Вифлееме и победившего нами, т. е. через принятие человеческой природы, змия — диавола, и льва — образ свирепой опасности (см. об этом: [Райкен и др., 2005, 572-573]), и Собою принесшего примирение с Богом, можно прочитать и иное понимание: смысловую связь с победой с помощью Божией над Наполеоном и с приходом новой эпохи умиротворения. За мир, источником которого назван Божественный Младенец — Христос, в тексте стихиры и приносится благодарность.
Тесное переплетение упоминаний мира и рождественской тематики было особенно значимо для императора Александра, который чувствовал особую личную связь с праздником Рождества Христова, поскольку родился в день, на который в XIX в. выпадал католический рождественский сочельник4. Александр I стремился придать празднованию Рождества новое значение через установление мира в Европе (см. подр.: [Андреев, 2012]).
За этими тропарями-стихирами следует тропарь «Спаси Господи люди твоя» с призыванием помощи императору и Богородичен догматик 1-го гласа «Всемирную славу…»5, в котором перечисляются качества и действия Богородицы, в том числе ведущие к Рождению Христа и наступлению мира и Царства Божия:
Сия бо явися небо и храм Божества. Сия, преграждение вражды разрушивши, мир введе́ и царствие отверзе. Сию убо имуще веры утверждение, поборника имамы из нея рождшагося Господа…
Обращение к Богородице направляет ум молящихся к осознанию всесилия Господня и Его всепобеждающего действия.
Продолжается чинопоследование чтениями паремии6, Апостола и Евангелия. Перед чтением паремии особо помечено, что ее читает диакон, «а не чтец обычный», если диаконов много — больше одного. Таким образом подчеркнута значимость текста, который представляет собой составной отрывок из пророчества Исаии (Ис 14:13–17, 24–27). В начале этого текста пророк говорит от имени царя Вавилонского о том, как высоко намеревался он вознестись — взойти на небо, вознести престол свой выше звезд, уподобиться Всевышнему и стать наравне с богами на краю севера . Последнее дополнение не несет существенного значения в глазах большинства толкователей этих стихов Библии, но на современников поражения Наполеона они должны были оказать особое воздействие, потому что именно российский император воспринимался как царь севера, зéмли и столица которого находились «на краю севера». Еще в 1813 г., путешествуя за главной квартирой русских войск и императором Александром во время Заграничных походов, А. С. Шишков сделал подборку цитат из Священного Писания, в которых он нашел «выражения весьма сходные с нынешнею нашею войною» (Шишков, 1870, 253). В числе этих выписок были и стихи из 14-й главы книги пророка Исаии.
Далее в тексте паремии говорится о том, что возгордившийся Вавилонский царь — образ страшного поработителя и угнетателя древних евреев, который колебал землю, потрясал царства, вселенную сделал пустынею и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой, — теперь низвержен в ад, в глубины преисподней. Окончание паремии состоит из слов Господа Саваофа:
…как Я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле Моей и растоптать его на горах Моих; и спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их. Таково определение, постановленное о всей земле, и вот рука, простертая на все народы… (Ис 14:24–26).
Слова паремии не могли не вызвать одобрения императора, поскольку они явно перекликались с мыслями Александра I, которые прозвучали, например, в манифесте на Рождество Христово 25 декабря 1812 г., после изгнания французов из России: «видя ясно руку Его, покаравшую гордость и злочестие» (Собрание, 1816, 98). И в других манифестах: «Его Всемогущая десница возносит и низлагает судьбы народов и Царств… Доколе рука Бога над нами, до тех пор мудрость и сила с нами»7, «гордого наказует Бог!.. Всемогущий положил предел бедствиям»8. Сюжет паремии был близок образу событий борьбы с Наполеоном: Божественная неотвратимая кара на возгордившегося правителя, желавшего поработить народы и управлять людьми Божиими.
За паремией следует великий прокимен «Кто Бог велий»9, который используется всего четыре раза в год, в том числе на рождественской вечерне. Связь с праздником оправдывает его появление в чинопоследовании молебного пения, хотя в обычных молебнах используются простые прокимны. В тожественном благодарственном пении слова прокимна тоже звучат с особым подтекстом: «Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса».
Чтение из Послания ап. Павла к Евреям — также составное (Евр 11:32–34, 12:1–2) и напоминает о подвигах патриархов, судей и царей еврейских, защищавших свой народ и побеждавших окружающих язычников, которые многократно превосходили силами богоизбранный народ. По словам апостола, они «верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих» (Евр 11:32–34). Цепочка перечисленных в отрывке судей идет не в хронологическом порядке, первым упомянут Гедеон, известный тем, что он отобрал в свое войско 300 самых бдительных воинов и прогнал с ними армию в сто тридцать пять тысяч человек. Похожие подвиги совершали и другие упомянутые в Послании еврейские военачальники вплоть до Давида, первого царя. Завершают чтение Апостола слова с призывом отложить гордость и грех и терпеливо идти к надлежащему подвигу, смотря на начальника и совершителя веры Иисуса. Всегда после чтения Апостола следует «Аллилуйя» со стихом, в качестве которого использован стих из Псалтири: «Господь крепость людем Своим даст, Господь благословит люди Своя миром» (Пс 28:11). Эти слова завершают чтение о военных подвигах.
Одна из наиболее интересных частей последования благодарственного и молебного пения — чтение Евангелия. Архимандрит Филарет выбрал короткий отрывок, относящийся к описанию событий, предшествующих концу света (Мф 24:6–8, 21–22). Это одно из немногих мест Евангелия, где Господь рассказывает ученикам о том, чему предстоит произойти до Его Второго пришествия. В этом отрывке Иисус Христос предупреждает апостолов:
…услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец:
ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам…
За этим апокалиптическим описанием будущего говорится о самой большой скорби в истории мира и о том, что никто бы не смог спастись, если бы не прекратились эти дни бедствий. По словам Спасителя, ради избранных дни эти сократятся.
В опубликованный вариант последования молебного пения были включены чтения всех основных богослужебных типов — паремия из Ветхого Завета, чтение из Апостола и евангельское зачало. Все они имеют составной характер, поскольку автор последования стремился использовать те библейские сюжеты и слова, которые бы более всего соответствовали смыслу праздника и тому образу, который был задан в указе и других документах императора. Поэтому во всех трех чтениях из Священного Писания говорится о поражении врагов Божиих руками народа Божия или избранных Его. Падение царя Вавилонского, падение Иерусалима и Страшный суд использованы в качестве аналогии с вторжением Наполеона и последующим его поражением10. Внутреннее напряжение читаемых отрывков повышается от ветхозаветного описания падения гордого царя до картины всеобщей войны и страшных природных бедствий в конце времен, за которыми следует прекращение бедствий и начало Божия царства.
Последние части молебного пения — сугубая ектения с особыми прошениями, коленопреклоненная молитва, великое славословие, или песнь хвалебная свт. Амвросия Медиоланского, и отпуст с многолетием. Автор последования написал три дополнительных прошения для сугубой ектении, в первом из которых приносится благодарность за избавление от врагов «в годину искушения, пришедшую на всю вселенную» (Последование, 1816, 9), а в третьем содержится молитвенное прошение о всех погибших во время искушений. В наиболее содержательном и сложном прошении пересказывается принятие Богом через ветхозаветного священника и прообраза Христа11 Мелхисидека десятины от родоначальника еврейского народа Авраама, заключившего с Богом Завет. Затем упоминается спасение евреев от фараона с войском, прославленное пением Моисея и его сестры Мариам перед облачным столпом, в котором находился сам Бог; умение царя Давида славить победы Божии. После перечисления прославления Бога в Ветхом Завете в прошении возносится молитва о принятии хваления и радости за уничтожение врага и мучителя, спасение монархов, прославление Российской державы и утверждение Церкви. Сугубая ектения в богослужении Православной Церкви имеет значение особенно усиленного прошения. Это особо подчеркнуто в «Последовании благодарственного и молебного пения», поскольку, в отличие от других молебнов, в нем в сугубой ектении не сокращены первые два прошения — «Господи Вседержителю» и «Помилуй нас Боже».
В последовании указано, что завершающую и основную молитву «Боже Великий и Непостижимый» читает предстоятель со всеми находящимися в храме «преклонь колена, со всяким вниманием и умилением… велигласно» (Последование, 1816). В начале молитвы содержится прошение о принятии моления, затем идет описание событий, связанных с «нашествием галлов»: молящиеся, т. е. русские люди, перестали бояться Божия наказания, стали действовать по своей воле, а не по воле Божией, не стремились иметь в уме и сердце Бога и «отеческая предания ни во что же вменив-ше»12. В наказание за это те, у кого раньше молящиеся учились, стали их буйными и «зверонравными» врагами — речь о французах и западных идеях, которые были популярны в России. Таким образом, составитель молитвы дает конкретное истолкование причин произошедших бед — отход от отеческого предания. В контексте молитвы это одна из причин, по которой содержанием молитвенного прошения становится просьба сохранить в памяти потомков обстоятельства вражьего нашествия и Божией милости. По мысли составителя молитвы, потомки будут помнить духовные причины бедствия и избегать их повторения. Не менее важной причиной этого прошения является содержание царского указа об установлении праздника для сохранения его в памяти следующих поколений. Милостивый Господь, увидевший скорбь россиян и «потребление царствующего града, в немже от лет древних призвася имя твое» (Последование, 1816), и услышавший молитвы, помог императору, помазаннику Божию, чтобы враги исчезли как дым, а любящие Бога просияли, как солнце. Значение этой победы не только в преодолении опасности и исчезновении врагов, но и в демонстрации силы Божией. Этот миссионерский эффект также отмечен в молитве словами
«Видехом, Господи, видехом и вси языцы видеша в нас, яко ты еси Бог, и несть разве тебе». Согласно этому тексту, русские укрепили свою веру и своими делами оказали то же воздействие на другие народы.
После благодарности Господу за малое, а не смертельное наказание в завершающей части молитвы содержится прошение хорошо помнить об этом «славном посещении» Бога, о благословении императора, о различных благодеяниях для России — «пастырем святыню, правителем суд и правду, народу мир и тишину, законам силу и вере преспеяние». Последние две фразы молитвы привлекают внимание своим христианским универсализмом и миссионерской нацеленностью. В этих словах испрашивается милость «ведущим Тя, но и не ищущим Тебе явлен буди, еще и врагов наших сердца к Тебе обрати, и всем языком и племеном во единем истиннем Христе Твоем познан буди» (Последование, 1816), чтобы прославляли Бога везде — на западе и на востоке, все народы на всех языках. Использование слов «языки» (язык — от речь и т. д.) и «языцы» (с церк.-слав. народ .) придает поэтическую окраску фразе. С содержательной точки зрения следует отметить, что в этих словах нашли отражение такие важные для императора Александра понятия, как «единый народ христианский», мир и тишина, правда правителей, познание и явление Бога людям.
Христианское единство было платформой внешнеполитического проекта императора Александра I, целью которого являлся мир и тишина в Европе и во всем мире. Об этом говорит текст Трактата о Священном союзе, в котором все народы и власти обязуются «почитать всем себя как бы членами единого народа христианского» (Собрание, 1816, 190), а Самодержцем этого народа назван сам Господь Бог. Целью этого союза монархов является «охранение веры, мира и правды». Таким образом, использованный архим. Филаретом в последовании текст молитвы послужил предтечей, и, возможно, одним из источников для Акта о Священном союзе — ключевого документа внешнеполитической концепции императора.
В конце молитвы предстоятель «возглашает велиим гласом»: «Слава Тебе, Богу, Спасителю всех, во веки веков». Далее в последовании предлагается петь великое славословие, которое начинается со слов «Слава в вышних Богу», или торжественный гимн «Тебе Бога хвалим»13. Последнее произведение имело широкое использование в Заграничных походах императора Александра и после них. Именно «Te Deum [laudamus]» запомнилось очевидцам величественных военных смотров и богослужений с участием десятков тысяч солдат в Париже (Choiseul-Gouffier, 1901, 179) и Теплице (Wolzogen, 1851, 204). Эти молебны, на которых присутствовали монархи, были одним важных проявлений единства союзников и их христианской общности, торжественной репрезентацией идей Александра I (см.: [Андреев, 2016, 153]). «Последование благодарственного и молебного пения» имело такое же назначение, только оно было ориентировано не на европейские круги, а на всю Российскую империю.
Еще одна особенность чинопоследования, выделявшая эту службу, — уникальный отпуст. В нем соединяется поминание праздничных событий Рождества с победой над врагом:
Иже во яслех Вифлеемских, яко Агнец возлегий, сопротивных же, крепок яко лев, сокрушивый, и верныя овцы Своя на путь правды и спасения и мира наставивый и упасый, Христос, Истинный Бог и Спаситель наш…
Святитель Филарет вновь использует противоположенные эпитеты — образы кроткого Агнца в яслях и Его же крепкого, словно лев, и сокрушающего противников. При этом верных Своих Бог направляет на путь правды, спасения и мира.
Завершает последование молебного пения многолетие с пожеланием побед императору и членам царской фамилии и «христолюбивому всероссийскому победоносному воинству».
Богослужение, составленное архим. Филаретом, проникнуто чувством Божественного участия в судьбах человечества, Его победоносной мощи и покровительства христианам. Изучение источников, в которых черпал вдохновение и образы будущий святитель, говорит о том, что молебное пение относится не только к событиям 1812 г., но и ко всему периоду со вторжения Наполеона в Россию до вступления русских войск в Париж и окончания войны. В службе нашли отражение мысли, которые император Александр публично высказывал в манифестах и использовал в составленном им тексте договора о Священном союзе, а также идеи, которые были широко распространены в это время. В том числе касавшиеся явственного вмешательства Всемогущего Бога в человеческие дела, о чем упоминали и другие священнослужители в своих проповедях14.
Выдающийся богослов архим. Филарет (Дроздов) прекрасно знал принципы церковного богослужения, но нарушил многие из них для того, чтобы сделать явным особый характер этого молебного пения. Многочисленные нетрадиционные и неуставные изменения и само содержание молебного пения подчеркивают исключительный характер событий, которым оно посвящено. В то же время опубликованный вариант последования представляет собой пышную и развернутую службу, в которой использована большая часть праздничных форм, свойственных самым важным вехам в церковном году: среди них чтение и паремии, и Апостола, и Евангелия, великий прокимен, коленопреклоненная молитва и другие особенности. Все это подчеркивает торжественное благодарение источнику и причине побед и благоденствия — Спасителю Христу. Преимущественное обращение молящихся ко Второму Лицу Святой Троицы не является особенностью именно этого богослужения, но в соединении с образом Мессии, кроткого Агнца и сильного льва дополняет впечатление молящихся о всемирном и почти эсхатологическом значении произошедших событий.
Церковное богослужение, составленное архим. Филаретом, — произведение мемориально-гомилетическое, поскольку оно обращено не только к Богу, Которому духовенство и простые молящиеся возносят благодарность и приносят свои моления, но и ко всем людям. Содержание молебного пения, через множество отсылок к библейским сюжетам и образам и сравнение их с событиями 1812–1814 гг., складывается в подобие частого для Ветхого Завета описания тяжелых бедствий Божия народа, наказанного за отступление от истины. Тем не менее, как судьба ветхозаветных евреев оказывается промыслительной и они получают спасение по милости Бога и Его силой через различных праведников, так и молебное пение напоминает о том, что судьбы мира во власти Всевышнего и поэтому лучшая защита для государств и народов — вера в Бога и верность Его учению. Интересно, что во внешнеполитических проектах императора Александра залогом мира и одним из условий Священного союза также являлся морально-религиозный компонент (см. об этом: [Андреев, 2020, 135, 142]).
Архимандрит Филарет «уловил переживания времени, чувства и мысли современников и воплотил их в чине» молебна [Добронравов, 1913, 589]. Немалое воздействие на него оказал известный проповедник и церковный иерарх архиепископ Дмитровский Августин (Виноградский), управлявший Московской епархией в последние годы жизни митр. Платона (Левшина). Архимандрит Филарет был хорошо знаком с проповедями московского викария, посвященными войне 1812 г. и последующим событиям15. Из его «Слова на освящение (обновление) Успенского сбора в Москве 30 августа 1813 года» свт. Филарет мог почерпнуть сравнение гордости Наполеона с Навуходоносором из пророчества Исаии, ставшего паремией в молебном пении. Стих воскресного прокимна «Господь крепость людям Своим даст» звучал, по словам архиеп. Августина, 29 сентября 1812 г., в день первого успеха русских войск после оставления Москвы (см.: [Снегирев, 1848, 47]). В молебне он произносится после чтения Апостола о подвигах ветхозаветных святых. Восклицал московский иерарх и слова великого прокимна «Кто Бог велий» применительно к поражению французских войск. Не вошедшие в окончательное чинопоследование молебного пения паремии из Четвертой книги Царств и упоминаемое в сугубой ектении потопление войска фараонова в пучине, слова «яко с нами Бог» и молитва о всеобщем прославлении Бога — все эти использованные архим. Филаретом для составления молебного пения слова и сюжеты озвучил в своем «Слове» архиеп. Августин. В его слове перед благодарственным молебном по случаю взятия Парижа также можно встретить образы и цитаты, попавшие в «Последование» будущего святителя Филарета. А повторяющиеся рефреном слова «Слава в вышних Богу, и на земли мир» звучат в слове архиеп. Августина по случаю заключения мира с Францией (см. подр.: [Снегирев, 1848, 60–71]).
Рассматривая составленное архим. Филаретом чинопоследование и написанные им для него тексты, следует обратиться и к другим источникам, в которых он черпал вдохновение и направление своего литургического творчества. Поскольку идея создания молебного пения исходила от императора, то и содержание текстов должно было соответствовать желанию Александра I. Основное содержание идей царя для российских поданных содержалось в его манифестах и в Акте о Священном союзе, опубликованном с рождественским манифестом 1815 г. Архимандрит Филарет воспринял идеи о том, что ход событий, связанных с победой над Наполеоном и установлением мира, представляет собой нечто выдающееся в истории человечества, и в составленном им чинопоследовании это подчеркивается16. При этом, конечно, литургическое творчество свт. Филарета не может рассматриваться как часть представлений императора. Скорее оно является рецепцией этих идей одним из наиболее выдающихся мыслителей и богословов своей эпохи.
Если выстраивать последовательную цепочку от формулирования идей до составления молебного пения на их основе, то в начале будет стоять инициатор нового праздника и религиозного восприятия мировых событий император Александр, чье представление живо воспринял и озвучил на языке церковной проповеди архиеп. Августин. Архимандрит Филарет использовал подобранные московским викарием образы и отсылки в качестве одной из составляющих целостного богослужения, в котором запечатлены идеи царя.
После смерти императора Александра последование молебного пения вновь претерпело изменение. По указу Николая I после многолетия правящему монарху в конце молебна было добавлено пение «Вечной памяти» Александру Павловичу «и всем, за Веру, Царя и Отечество на брани живот свой положившим» (Последование, 1898, 156 об.). А затем следовало многолетие российскому воинству. Такая вставка нарушила стройность и последовательность чинопоследования и стала одной из причин полемики в периодической печати в 1914 г. относительно молебного пения. Утрата к нач. ХХ в. прежних смыслов богослужения дала повод известному церковному иерарху архиепископу Харьковскому Антонию (Храповицкому) назвать его «неблагоустроенным привеском и совершенно немелодичной мешаниной тропарей, стихир, многолетий и отрывков из панихиды» [Антоний Храповицкий, 1914] и предложить отменить совершение молебствия в этот день, поскольку оно противоречит уставу17 и нарушает исключительность празднования Рождества Христова.
В настоящее время традиция повсеместного ежегодного совершения этого благодарственного молебного пения в храмах Русской Православной Церкви не поддерживается и в общецерковных богослужебных указаниях оно не упоминается. Однако в воссозданном храме Христа Спасителя по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II каждый год 25 декабря по новому стилю отмечается годовщина победы в Отечественной войне 1812 г. и совершается молебен «об избавлении Церкви и державы Российской от нашествия галлов и с ними двадесяти язык»18.
В опубликованном на сайте Московской Патриархии современном последовании (Последование) есть существенные отличия от чина, утвержденного в 1816 г. По понятным причинам в чинопоследовании молебна прошения об императоре и членах его фамилии заменены прошениями «о богохранимой стране нашей, вла-стех и воинстве ея», а поминовение Св. Синода заменено поминовением Святейшего Патриарха, митрополита и правящего архиерея. В мирной ектении вместо особого прошения об императоре и его царстве вставлено прошение «О еже непреобориму и победительну всегда над враги Отечеству быти, и мир и славу утвердити в земли нашей». По «Бог Господь» вместо рождественских стихир поется благодарственный тропарь «Благодарни суще», на «И ныне» — Богородичен глас 8-й «Взбранной Воеводе». Паремию читает чтец, а не диакон. Из второго особого прошения на сугубой ектении вырезана первая часть с пересказом ветхозаветных событий до слов «Сам и ныне». Молитва читается без преклонения колен и в сокращенном виде, начиная со слов «Ты, Господи Боже». Вместо царя в молитве упоминается благочестивое воинство и призывается благословение на Российскую державу. За молитвой сразу следует окончание, без великого славословия, а «Тебе Бога славим» поется в самом конце молебна после многолетия патриарху, властям и народу, возглашения вечной памяти императору Александру I и всем отдавшим жизнь «за державу Российскую» и после многолетия «победоносному воинству».
Учитывая, что свт. Филарет в своих проповедях и словах практически никак не откликнулся на воззвания императора Александра I о новых христианских основах отношений между странами и монархами, на его концепцию Священного союза (см. об этом: [Андреев, 2017, 120]), только сочиненное будущим митрополитом Московским «Последование благодарственного и молебного пения» может рассматриваться как своеобразное восприятие интеллектуальной и административной элитой Русской Православной Церкви в лице архим. Филарета и членов Св. Синода некоторых идей царя, относившихся к его религиозному видению событий, связанных с победой над Наполеоном и установлением мира в Европе.