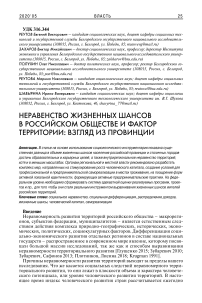Неравенство жизненных шансов в российском обществе и фактор территории: взгляд из провинции
Автор: Реутов Евгений Викторович, Захаров Виктор Михайлович, Полухин Олег Николаевич, Реутова Марина Николаевна, Шавырина Ирина Валерьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Тема
Статья в выпуске: 5, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе использования социологического инструментария показана существенная разница в объеме жизненных шансов населения российской провинции и столичных городов достичь образовательных и карьерных целей, а также внутрирегиональное неравенство территорий, хотя и в меньших масштабах. Органам региональной и местной власти рекомендовано разработать комплекс мер, направленных на стимулирование роста человеческого капитала, создание условий для профессиональной и предпринимательской самореализации в местах проживания, на поощрение форм активной локальной идентичности, формирующих активные предпринимательские практики. На федеральном уровне необходимо сформировать систему адекватной оценки реализуемых программ, проектов и пр., для того чтобы они стали реальным инструментом выравнивания жизненных шансов жителей российских территорий.
Социальное неравенство, социальная дифференциация, распределение доходов, жизненные шансы, человеческий капитал, самореализация
Короткий адрес: https://sciup.org/170171226
IDR: 170171226 | УДК: 316.344 | DOI: 10.31171/vlast.v28i5.7563
Текст научной статьи Неравенство жизненных шансов в российском обществе и фактор территории: взгляд из провинции
Неравномерность развития территорий российского общества – макрорегионов, субъектов федерации, муниципалитетов – является естественным следствием действия комплекса природно-географических, исторических, экономических, политических, социокультурных факторов. Дифференциация социально-экономического развития отдельных регионов в составе национальных государств – распространенное в современном мире явление, которому посвящен большой массив исследований, так же как и способам выравнивания неравномерности территориального развития [Глущенко 2015; Зубаревич 2010; Зубаревич, Сафонов 2013; Плотников, Лисина 2018; Krugman 1991].
Причины неравномерности развития территорий выходят за пределы нашего исследования. Что же касается социальных следствий неравномерного территориального развития, то они лежат в плоскости объема и характера человеческого потенциала, или уровня человеческого развития территорий. В настоящее время индекс человеческого развития стран рассчитывается ежегодно
ООН на основе таких интегральных показателей, как уровень образования населения, продолжительность жизни и уровень жизни. По результатам 2018 г. Россия в рейтинге 189 стран по ИЧР заняла 49-е место (значение индекса – 0,824), войдя в группу стран с очень высоким ИЧР (значение индекса не менее 0,7)1. Аналитический центр при Правительстве России рассчитывает индекс человеческого развития применительно к субъектам РФ. В последнем из них, опубликованном в 2018 г. по данным, характеризующим 2016 г., регионы России получили значения индекса от 0,786 (Республика Тыва) до 0,952 (Москва)2.
Рассчитанные на основе объективных показателей, в основе которых – набор статистических данных, соответствующие индексы позволяют оценить привлекательность стран и внутристрановых территорий для проживания и определить их, если можно так выразиться, конкурентоспособность, выраженную в их притягательности для инвестиций в широком смысле – от финансовых вливаний до привлечения высококвалифицированных трудовых ресурсов.
Целью данной статьи является оценка посредством социологического инструментария неравенства жизненных шансов населения российских регионов в системе координат «центр – провинция» и иных параметров территориально-поселенческой структуры российского общества.
В эмпирической основе данной статьи – результаты социологического исследования «Ментальные неравенства как фактор социальной поляризации российской провинции», проведенного в Белгородской и Воронежской областях и состоящего из массового анкетного опроса (май–июнь 2018 г., N = 1 200), серии полуформализованных интервью (сентябрь–октябрь 2019 г., N = 50) и экспертного опроса (июнь–июль 2020 г., N = 50).
«Центр – провинция» как ведущая дихотомиятерриториальной структуры России
Неравномерность регионального развития в различных странах, как правило, сильнее всего выражена именно по линии «центр – провинция» (или «центры – провинция»). Под провинцией, в соответствии с нашей концепцией, сформулированной в предыдущих работах, мы будем понимать «совокупность территорий, находящихся на достаточном удалении от административно-политического и культурного центра (центров) государства, а также точек инновационного экономического роста и несущих на себе отпечаток зависимости и вторичности в воспроизводстве социальных практик и отношений» [Реутов, Реутова 2020: 260]. Провинциализм – это прежде всего социокультурное понятие, означающее, помимо всего прочего, ограниченность жизненных шансов, возможностей самореализации тех людей, которые по своему психотипу или набору когнитивных свойств не соответствуют модальной норме и в то же время не обладают большим объемом социального капитала в виде происхождения, принадлежности к клану и пр. Р. Брин, в частности, задавался вопросом, в какой степени такие вещи, как неравенство в жизненных шансах между индивидами и семьями, структурированы на основе класса, и предлагал рассматривать имеющиеся у индивидов жизненные шансы в контексте доступа к редким и ценным благам [Breen 2005]. В современном обществе, в котором доминирует индивидуализм и возникает, казалось бы, множество шансов, что можно охарактеризовать как «жизнь в мире, полном возможностей, каждая из которых более привлекательна, чем предыдущая» [Бауман 2008: 70], далеко не каждый индивид может в полной мере реализовать эти шансы.
По данным опроса ВЦИОМа (июнь 2020 г.), для 13% россиян смена места жительства – это именно то, что не хватает им, «чтобы преуспеть в жизни, добиться более высокого положения в обществе». И это на самом деле не так уж мало, поскольку это 4-й по значимости фактор реализации достижитель-ских установок (лидирует материальная обеспеченность – 34%)1.
Эмпирический анализ неравенства жизненных шансов жителей территорий
Как было сказано выше, специфика провинциальных социумов состоит в высокой значимости социального капитала семьи в социоэкономической самореализации человека – его профессионализации, карьерном продвижении, достижении предпринимательского успеха. В относительно небольших сообществах очень сильно проявляется дистрибутивный характер социальных отношений. А при ограниченности объема социально значимых ресурсов четко проявляется тенденция их концентрации в среде административной и предпринимательской элитных групп, зачастую представляющих собой единое целое. Как показали результаты массового анкетного опроса, значительная доля представителей провинциальных социумов (42,1%) убеждены в том, что без связей, «блата» в их городе, районе невозможны ни хорошее трудоустройство, ни карьерный рост, ни эффективная предпринимательская деятельность, ни иные способы профессиональной самореализации. Безусловно, это субъективная оценка, но в ее основании лежат не только стереотипы, но и личный опыт либо опыт, транслируемый в привычных кругах коммуникации. И эта оценка зачастую трансформируется в соответствующую установку, оказывающую негативное воздействие на индивидуальную активность либо канализирующую ее в иных направлениях (миграция, уход в приватные практики, саморазрушающее поведение и пр.). Еще 32,3% опрошенных отметили наличие в месте их проживания возможностей для трудоустройства, карьерного роста, развития предпринимательства, но с тем условием, что воспользоваться ими могут лишь очень способные и целеустремленные люди. И лишь 15,9% респондентов отметили наличие в их городе или районе большого объема возможностей в профессионально-деловой сфере для всех [Реутов, Реутова, Шавырина 2020: 66].
Неожиданным результатом исследования оказался тот факт, что представления о возможностях и ограничениях самореализации в профессиональноделовой сфере фактически не зависят от поселенческого статуса респондента. И в больших, и в малых городах, и в сельских поселениях их жители солидарны в наличии серьезных средовых барьеров личной активности (см. табл. 1).
Попытка объективировать неравенство жизненных шансов в зависимости от поселенческого статуса посредством экспертного опроса ( N = 50, группа экспертов была представлена сотрудниками государственных и муниципальных учреждений – 50%, представителями научного сообщества – 28%, государственными и муниципальными служащими – 16%, журналистами – 6% из трех регионов – Белгородской, Воронежской и Курской обл.) дала следующие результаты. Во-первых, выяснилось, что, по мнению 2/3 экспертов (66%), неравенство жизненных шансов жителей российской провинции, с одной стороны, и крупных мегаполисов, в т.ч. Москвы и Санкт-Петербурга, – с другой, выражено «очень сильно», и лишь 34% опрошенных указали, что оно выра-
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, в Вашем городе или районе есть все возможности для трудоустройства, карьерного роста, развития предпринимательства и других способов профессиональной самореализации?», %
|
Ответ / Тип поселения |
Город с населением более 100 тыс. чел. |
Город с населением менее 100 тыс. чел. |
Село |
Всего |
|
Да, таких возможностей много; дело лишь в желании |
16,5 |
14,6 |
15,6 |
15,9 |
|
Такие возможности есть, но воспользоваться ими могут лишь очень способные и целеустремленные люди |
32,1 |
33,8 |
31,7 |
32,3 |
|
Такие возможности есть только для тех, у кого есть родственные связи, «блат» |
44,4 |
40,9 |
39,1 |
42,1 |
|
Затрудняюсь ответить |
7,0 |
10,7 |
13,6 |
9,7 |
Коэффициент V Крамера [0…1]: 0,022.
жено «в небольшой степени». При этом экспертные оценки отличаются высоким уровнем пессимизма в отношении уменьшения этого измерения социального неравенства: лишь 4% посчитали, что оно будет уменьшаться в течение 10 ближайших лет, 46% спрогнозировали его сохранение на нынешнем уровне, и 50% – дальнейший рост неравенства между жизненными шансами жителей центра и провинции.
Во-вторых, экспертная оценка выявила значительное неравенство жизненных шансов в приращении человеческого капитала (прежде всего, в образовательной и профессиональной сферах). Территориально-поселенческий признак, с точки зрения экспертов, оказывает существенное влияние на возможность получения качественного образования. Так, шанс на получение качественного образования среднего жителя села оценивается экспертами в 4 балла по 10-балльной шкале, малого города – в 5,16 балла, провинциального областного центра – в 7,3 балла, мегаполиса – в 9 баллов. Таким образом, разрыв между шансами получения качественного образования между крайними поселенческими группами оказался более чем в 2 раза.
Аналогична и разница в шансах на успешную карьеру. По экспертной оценке, у жителя села ее возможность равна 3,82 балла (по 10-балльной шкале), у жителя малого города – 5,02 балла, провинциального областного центра – 6,8 балла, мегаполиса – 8,06 балла.
Данные всероссийского опроса ВЦИОМа (август 2020 г.) также свидетельствуют о сохраняющихся в общественном мнении установках о неравенстве возможностей для профессиональной самореализации, достижения материального достатка и получения качественного образования в Москве и других регионах России (в пользу первой). Но вместе с тем, когда поднимаются вопросы здоровой жизни, безопасности, обеспечения жильем, личной свободы, создания семьи, воспитания детей и, тем более, экологической обстановки, регионы России оцениваются россиянами в более выигрышном свете по сравнению с Москвой. Так, о наличии больших возможностей для получения хорошего образования в Москве говорят 51% опрошенных россиян, в регионах – 9%, о равенстве возможностей – 37%. О лучших шансах найти под- ходящую работу в Москве говорят 52%, в регионах – 11%, о равенстве возможностей – 32%. О лучшей возможности обеспечить себе и своей семье достойный уровень материального положения в Москве говорят 56%, в регионах – 10%, о равенстве таких возможностей – 28%. Однако преимущества Москвы в том, чтобы заняться бизнесом, организовать свое дело, видят всего 22% респондентов, регионов – также 22%, равенство возможностей – 44%. Преимущества Москвы в сохранении здоровья усматривают 28% россиян, регионов – 36%, равенство возможностей – 32%. О том, что Москва лучше подходит для обеспечения личной безопасности, считают всего 12% опрошенных; регионам в данном отношении отдают предпочтение 34% респондентов; о равенстве условий говорят 47%. Условия для обеспечения личной свободы в Москве лучше с точки зрения 17% опрошенных, в регионах – 22%, равны – 51%. Встретить любимого человека и создать счастливую семью скорее получится в Москве с точки зрения всего 4% респондентов, в регионах – 16%; шансы на это равны – 71%. Воспитывать детей, ограждая их от дурного влияния, лучше всего в Москве с точки зрения 5% респондентов, в регионах – 39%; шансы равны – 52%. О том, что благоприятную экологическую обстановку больше шансов встретить в Москве, считают 5% опрошенных, за ее пределами – 73%; шансы на это равны – 17%1.
Возвращаясь от экспертных оценок и результатов всероссийских опросов к мнениям и представлениям участников провинциальных сообществ относительно условий для самореализации в профессиональной и общественной деятельности, следует привести ряд нарративов интервью, в которых преобладают крайне скептические высказывания. Безусловно, в ходе интервью фиксировались и мнения о том, что активный человек сможет найти свою нишу и достичь жизненного успеха даже в глухой провинции (высказывания респондентов приведены с минимальной стилистической и пунктуационной редакцией): «Можно везде абсолютно. Можно... Ну, конечно, в городе больше вариантов. Но можно и здесь. Вообще проще преуспеть там, где больше людей, потому что в основном на людях деньги зарабатывают. Но, в принципе, можно и в деревне взять 100 гектар. И сажай, выращивай, вези в город. Или в город езжай. Можно везде при желании. А если нету желания, то и под носом ничего не будешь видеть, ничего не делать» (мужчина, 31 год, село).
Но в подавляющем большинстве случаев в ответах респондентов просматривалась или была прямо выражена неудовлетворенность социальной ситуацией, состоянием рынка труда и набором условий для самореализации в месте своего проживания. В меньшей степени это касалось крупных городов, особенно Воронежа, в гораздо большей – сел и поселков. При этом в части высказываний в качестве конечной цели желаемой территориальной мобильности указывались другие страны. И что еще следует отметить, негативные оценки жизненных шансов в провинции давали представители абсолютно всех возрастных групп: «Если я захочу чего-то добиться в любом городе, я добьюсь, потому что врачи везде нужны, но в то же время я повторюсь, что в таких городах, как Москва и Питер, если я буду хорошим специалистом, то там меня будут ценить больше. И тем более, если какие-то новые технологии развиваются, то они сначала идут в Питер и Москву и только потом разбрасываются по областям и городам. Новые технологии доходят до нас намного позднее, чем до Москвы, поэтому, конечно, мне бы хотелось. Но “мне бы хотелось” – это одно, а смогу ли я – это другое» (женщина, 18 лет, живет в селе, учится в областном центре);
«В нашем случае, в России шансов чего-то достичь – это только крупный город. Москва, конечно, прежде всего. Уровень жизни Москвы и всей остальной России – разный. Поэтому для того, чтобы самореализоваться, если добиться чего-то кто-то желает, конечно, он это делать должен не на периферии, а в крупных городах, прежде всего, в Москве. У нас в России надо жить там, где ты родился. Но, конечно, шансы – это лучше за пределами» (мужчина, 53 года, райцентр); «Людям всегда кажется, что трава зеленее у соседей в саду. Успех практически не зависит от местоположения, но если учесть некоторые особенности нашей области (воровство проектов, обязательные условия открытия), возможно, где-то в другом месте. – А где именно? В другом населенном пункте Вашего региона, в другом регионе России или за ее пределами? – За пределами России» (женщина, 22 года, областной центр); «Хотя говорится, что где родился, там и пригодился. Но здесь мало шансов. – А где именно? – Москва, наверное» (женщина, 61 год, районный центр); «Где-то в другом месте шанс преуспеть больше. – А где именно? – В крупных городах России и за ее пределами» (женщина, 45 лет, областной центр); «Все зависит от ситуации в целом. Но скорее всего, процент добиться успеха в жизни выше в других регионах. – А где именно? – Возможно, центральные города России. А если за пределами, то США, Канада, Китай» (женщина, 26 лет, областной центр); «У нас не все находят работу, которая нравится. Лучше уезжать куда-то. У нас нет работы. Допустим, устроился человек на какую-то работу. Работает и работает до пенсии. Некуда себя применить молодежи. Это же сельская местность. Мало у нас достойных мест. Они в основном заняты, редко освобождаются. А если освобождаются, то туда устраиваются “близкие” люди» (женщина, 60 лет, село); «Я думаю, что сейчас больше шансов всегда в больших городах. В миллионнике, например – Воронеж, Москва, Питер, где есть больше работы, больше специальностей, больше возможностей, естественно. В мегаполисах, где и зарплата выше и есть больше возможностей» (женщина, 53 года, райцентр); «Конечно, в другом месте. – А где именно? – Сначала хотя бы в Воронеже, а там дальше. Но только не в нашем городе. А Москва, Петербург – это самые перспективные города» (женщина, 50 лет, райцентр); «В другом месте. У нас не добьешься. – А где именно? – Я считаю, в городе. Можно и в нашем регионе, не уезжая за границу. Я считаю, что это рискованно» (женщина, 60 лет, село); «Там, где мы проживаем, этот город связан с сельским хозяйством. То есть, я думаю, перспектива в нашем городе только одна – это все, что непосредственно связано с сельским хозяйством. Мне хотелось бы, чтобы это был другой совсем даже регион. Может быть, даже за пределами России. Я, конечно, была бы безумно счастлива, если бы дети реализовали себя где-то в другой стране» (женщина, 39 лет, райцентр).
В последнем высказывании акцентируется пожелание респондента, адресованное своим детям. И хотя подавляющее большинство собеседников подчеркивали, что выбор места своего проживания они оставляют исключительно своим детям, не намереваясь влиять на него ни в ту, ни в другую сторону, в значительном числе их ответов была все та же неудовлетворенность условиями для достойного трудоустройства и самореализации в месте их проживания: «А чего бы Вы больше хотели – чтобы Ваш ребенок (дети) остались жить в Вашем городе (селе) или уехали в другое место? – Ну я, конечно, как отец, хотел бы, чтобы дети жили рядом, с нами жили. Но мое желание не всегда совпадает с их желанием и с теми условиями, которые созданы у нас, чтобы они могли самореализоваться, развиваться, находить свою дорогу в жизни, находить свои возможности. Я думаю, что есть места для этого более подходящие. И, наверное, они должны их искать» (мужчина, 53 года, райцентр); «Это тоже вопрос выбора. Но я бы хотела предложить своим детям попробовать свои силы в более крупном населенном пункте, будь то областной центр, столица, может быть. В молодости нужно ставить более амбициозные цели» (женщина, 56 лет, село).
Хотя для большинства жителей российской провинции общественная активность находится на периферии их жизненных интересов и практик, ее проявления все же имеют нормативный характер, а людей с активной гражданской позицией, как правило, уважают. Соответственно, реакция властей и общественности на гражданский активизм и в целом на некую самостоятельную гражданскую позицию также может служить индикатором привлекательности территорий.
В прозвучавших в ходе полуформализованных интервью нарративах описывается, скажем так, амбивалентное отношение основных групп влияния на тех или иных территориях к общественной активности граждан. В высказываниях большей части респондентов отчетливо звучит мотив поддержки общественных инициатив, которые направлены на цели, однозначно интерпретируемые как общее благо: «Проведение демонстраций, митингов, субботников, волонтерство и очень-очень много... В области культуры можно привести примеры и спорта и все... У нас активные люди всегда в почете, в уважении. Они вокруг себя сколачивают множество народа, и за ними идут. Это все у нас хорошо» (женщина, 67 лет, райцентр); «Ну вот мероприятия по уборке востребованы и проводятся не только в моем районе, такая вот минимальная активность есть повсеместно. Что более масштабное – встречается редко, пару раз в год проводятся какие-то городские мероприятия, но их как-то маловато. Было бы побольше, я тоже бы в них поучаствовала. Препятствий никаких нет, органы местного самоуправления только “за”, вопрос в инициативности людей, гражданской активности граждан» (женщина, 51 год, областной центр); «В таких местах, как я живу, люди друг друга знают, и они все помогают. Ну, например, субботники. Очень хорошо реагируют. Или там какие-то концерты устраивают. Какая-то помощь нужна... Все, что угодно. В малых городах, в малых населенных пунктах это очень хорошо проявляется – взаимопомощь. Если ты проявляешь себя, люди только рады» (женщина, 72 года, село); «Ну востребованы – только в общественных нуждах – в ремонте дорог, школ, может быть» (женщина, 52 года, райцентр).
Но в ряде случаев респонденты отмечают невостребованность общественных инициатив, особенно в тех случаях, когда речь идет о ее нестандартных проявлениях, не санкционированных властью: «Как Вы думаете, там, где Вы живете, общественный активизм, активная гражданская позиция встречают скорее препятствия или поддержку, востребованы они или нет, и если да, то в каких именно направлениях деятельности? – Конечно, препятствия. У нас, если ты начнешь что-то говорить против, то сразу потеряешь место работы, а мест работы очень мало в городе» (женщина, 50 лет, райцентр); «Точно не востребована, потому что мы давным-давно погрязли в своем провинциальном болоте, утонули в нем» (мужчина, 47 лет, райцентр); «Нет, большинство людей зациклено на простом выживании. Поэтому мало таких людей. Я практически их не встречала. Небольшая доля активности, если это можно отнести к социальной сфере жизни, – в культуре. Это единственное в нашем селе, что хоть немножечко развивалось и развивается. Но это малое количество людей» (женщина, 50 лет, село).
Заключение
В последнее десятилетие региональная политика федерального центра в России была направлена на выравнивание социально-экономического разви- тия субъектов федерации. Федеральные дотации, введение унифицированной системы показателей для оценки деятельности исполнительной власти регионов, даже создание отдельных министерств по делам наиболее проблемных макрорегионов позволили предотвратить деградацию наиболее депрессивных территорий и несколько сгладить разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами. Так, Е. Казанцева отмечает, что в 2000 г. разница между первым (Тюменская обл., объем инвестиций в основной капитал на душу населения – 62 011 руб.) и последним в рейтинге регионе (Республика Тыва, объем инвестиций в основной капитал на душу населения – 922 руб.) составила 67,26 раза. В 2018 г. разрыв между первым (Тюменская обл., 627 473 руб.) и последним (Ивановская обл., 29 571 руб.) составил 21,22 раза [Казанцева 2019]. Однако, во-первых, социально-экономическое неравенство регионов лишь немного сгладилось, но не снизилось до приемлемого с точки зрения интегрированности социума уровня. Во-вторых, последствия нынешнего экономического кризиса могут оказаться непредсказуемыми для регионального развития России. И, наконец, в-третьих, набор социально-экономических показателей, которыми принято измерять уровень межрегиональных различий, далеко не всегда позволяет судить о реальном качестве жизни населения регионов, об удовлетворении жизненных потребностей их жителей. Проблема неравенства жизненных шансов жителей отдельных территорий (центр и провинция, крупные и малые города, села и поселки) решается посредством политики выравнивания территориального развития, инвестиций в социальную инфраструктуру страны либо (на индивидуальном уровне) путем территориальной мобильности. В последнем случае проблема качества человеческого потенциала или уровня человеческого развития для регионов – доноров человеческих ресурсов становится еще острее.
В данных условиях региональным и муниципальным властям необходимо выработать комплекс мер, направленных на стимулирование роста человеческого капитала, создание условий для комплексной самореализации (профессиональной и предпринимательской прежде всего) в местах проживания, на поощрение форм активной локальной идентичности, формирующих активные предпринимательские практики. От федеральной власти, в свою очередь, требуется сформировать систему адекватной оценки соответствующих мер (программ, концепций и пр.), для того чтобы они стали реальным инструментом выравнивания жизненных шансов жителей российских территорий и предотвращения образования в стране депрессивных анклавов с деградирующим населением.
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, грант «Ментальные неравенства как фактор социальной поляризации российской провинции» № 18-011-00474 (руководитель Е.В. Реутов).
Список литературы Неравенство жизненных шансов в российском обществе и фактор территории: взгляд из провинции
- Бауман З. 2008. Текучая современность (пер. с англ. под ред. Ю.В. Асочкова). СПб: Питер. 240 с
- Глущенко К.П. 2015. Об оценке межрегионального неравенства. -Пространственная экономика. № 4. С. 39-58
- Зубаревич Н. 2010. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. М.: Независимый институт социальной политики. 160 с
- Зубаревич Н.В., Сафронов С.Г. 2013. Неравенство социально-экономического развития регионов и городов России 2000-х годов: рост или снижение? - Общественные науки и современность. № 6. С. 15-26
- Казанцева Е.Г. 2019. Проблемы регионального неравенства в России. - Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. № 2(58). Доступ: https://eee-region.ru/article/5804/ (проверено 20.09.2020)
- Плотников В.А., Лисина Е.А. 2018. Оценка уровня региональной дифференциации в Российской Федерации - Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. № 2(36). С. 5-15
- Реутов Е.В., Реутова М.Н. 2020. Жизненные шансы в российской провинции. - NОMOTHETIKA: Философия. Социология. Право. Т. 45. № 2. С. 259-270
- Реутов Е.В., Реутова М.Н., Шавырина И.В. 2020. Жизненный успех и шансы на его достижение в представлениях жителей российской провинции. - Социс. Социологические исследования. № 6. С. 61-71
- Breen R. 2005. Foundations of a Neo-Weberian Class Analysis. - Approaches to Class Analysis (ed. by E.O. Wright). Cambridge: Cambridge University Press. Р. 31-50
- Krugman P. 1991. Geography and Trade. Cambridge, MA: MIT Press. Xi + 142 p