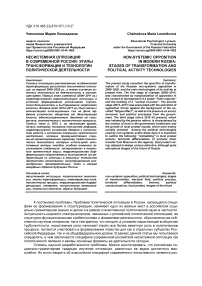Несистемная оппозиция в современной России: этапы трансформации и технологии политической деятельности
Автор: Челнокова Мария Леонидовна
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 11, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению особенностей трансформации российской несистемной оппозиции за период 2000-2020 гг., а также изучению основных технологий ее деятельности в настоящее время. Первый этап изменений (2000-2011 гг.) характеризовался маргинализацией оппозиции в условиях формирования устойчивого «путинского большинства» и выстраивания «вертикали власти». Второй этап (2012-2017 гг.) был связан с активизацией оппозиционных сил на фоне эффекта усталости общества от действующей власти, административного давления на социальные, экономические и политические процессы. Третий этап (с 2018 г. по настоящее время), начало которому положила пенсионная реформа, характеризуется снижением доверия к институтам власти и всплеском локальных протестных настроений, носящих преимущественно социально-ориентированный характер. Среди политических технологий, которые используют несистемные акторы сегодня, особого внимания заслуживают следующие: «встраивание» в локальные протестные акции; территориальная дифференциация общественных выступлений (их ретрансляция из столицы в регионы); тотальное протестное голосование; конструирование разнообразных привлекательных, хотя и весьма аморфных образов будущего России.
Несистемная оппозиция, политические технологии, этапы трансформации, электоральное поле, политический процесс, территориальная дифференциация, интернет, политические коммуникации, локальный протест, образы будущего
Короткий адрес: https://sciup.org/149134244
IDR: 149134244 | УДК: 316.485.22(470+571)“312” | DOI: 10.24158/pep.2020.11.4
Текст научной статьи Несистемная оппозиция в современной России: этапы трансформации и технологии политической деятельности
педагог-психолог, лицей Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
К постановке проблемы. Проблема политической оппозиции в России, касающаяся специфики ее формирования и структуризации, занимает одно из важных мест в российском социально-гуманитарном знании в целом и в рамках отечественной политической науки в частности. Актуальность широкого спектра вопросов, связанных с российской политической оппозицией, ее структурно-функциональными особенностями и форматами деятельности, обусловлена как собственно научным интересом, так и тем фактом, что сегодня, в условиях нарастающей в обществе турбулентности, несистемные силы начинают играть все более заметную роль в политическом процессе, пытаются участвовать в формировании повестки дня как в отдельных субъектах Российской Федерации, так и на общефедеральном уровне. В рамках данной статьи мы попытаемся определить, в чем заключается специфика современной российской несистемной оппозиции как политического явления и каковы основные форматы ее деятельности сегодня.
Степень научной разработанности проблемы. Можно констатировать, что российская социально-гуманитарная традиция изучения оппозиции, различных ее видов достаточно масштабна. Но если говорить об осмыслении специфики современного несистемного сегмента рос- сийской политики, то, несмотря на наличие публикаций по данной тематике, можно выявить целый ряд лакун, связанных с пониманием структурных, идейно-политических и технологических особенностей деятельности несистемных игроков российского политического поля. Особенно это касается использования оппозиционерами новейших технологий социальной коммуникации, возможностей и перспектив, которые открываются в цифровую эпоху.
Среди наиболее заметных исследований российской несистемной оппозиции 2000–2010 гг. необходимо выделить работы О.М. Михайленка, О.Г. Щениной [1], О.А. Кузнецовой, Д.А. Михайлова [2] и др.
К указанным выше работам тесно примыкает кластер исследований, посвященных практикам политического протеста, в котором активно участвует ряд несистемных оппозиционных сил. Причем речь идет как о реальных, «уличных» выступлениях, так и о протесте-онлайн, то есть о формировании антивластного дискурса в социальных сетях интернета (Е.В. Бродовская, Н.А. Тюков [3], В.В. Титов [4], Н.А. Самохвалов [5], Н.А. Пономарев [6] и др.).
Принимая во внимание противоречивость и сложность политического процесса в постсоветской России, представляется возможным ограничить рамки исследования периодом 2000– 2020 гг.
Основные результаты исследования. Первоочередной задачей современной политической науки, безусловно, является выработка приемлемого научно-политического определения несистемной оппозиции, а также выявление ее ключевых характеристик. Н.П. Медведев и А.П. Борисенко полагают, что несистемные политические силы «отличает жесткое противоборство с действующей властью, направленное на использование не всегда законных методов ведения политической борьбы. Именно использование подобных способов достижения поставленной цели отражается на статусе данных политических сил, который зачастую носит нелегальный или полулегальный характер» [7, с. 150].
Несколько иной точки зрения придерживается В.С. Кондратьев. По его мнению, границей «системности – несистемности» в современной российской политике является «отношение политических структур к существующим формам политической борьбы: участию в оппозиционных митингах и демонстрациях (в том числе и несанкционированных) и, главным образом, к выборам» [8, с. 19].
Рассматривая различные определения и характеристики несистемной оппозиции, следует оговориться, что в российском политическом дискурсе сам факт несистемности часто трактуется одномерно, а именно как осознанный выбор неких политических сил действовать противозаконными методами, делая ставку на силовые сценарии смены власти и целенаправленную дестабилизацию ситуации в стране. На наш взгляд, указанное понимание исследуемого социального явления представляется в значительной мере редуцированным и игнорирует два факта:
-
1) существенная часть несистемной оппозиции, хотя и занимает конфронтационную позицию по отношению к действующей власти и проводимой государственной политике, все же призывает ориентироваться на легальные методы и механизмы политического протеста;
-
2) нынешняя власть – как федеральная, так и региональная – последовательно проводит политику «выдавливания» из электорального (и более широко – из правового) поля целого ряда оппозиционных структур, которые не представляют собой крайних радикалов, но обладают несомненным потенциалом роста популярности, в том числе за счет «раскрутки» наиболее злободневных проблем современного российского общества (коррупция, снижение доходов населения, борьба против пенсионной реформы, последствия пандемии для малого бизнеса, экологическая ситуация в ряде регионов и т. д.).
Опираясь на приведенные выше подходы, можно определить несистемную оппозицию как многомерный, внутренне неоднородный сегмент российского политического пространства, находящийся вне либо на периферии правового поля; как правило, не участвующий в электоральных процессах и выступающий за радикальную смену нынешнего политического курса, а также за кардинальные институциональные изменения существующей конфигурации власти и политической системы в целом.
Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на наличие широкого пласта работ по исследуемой нами проблематике, вопрос периодизации деятельности российской несистемной оппозиции проработан слабо. Большинство современных авторов не дают четкого представления об основных этапах эволюции этих политических сил в постсоветской России, а ограничиваются выделением двух наиболее очевидных точек бифуркации: 2000 г. (переход от «ельцинской» эпохи к «путинской» и начало выстраивания «вертикали власти») и 2011–2012 гг. (так называемые «болотные протесты»).
В данном ракурсе выделяется подход Н.П. Медведева и А.В. Борисенко. Они считают, что своеобразной точкой сбора несистемных игроков стал 2003 г., который ознаменовался поражением левых и (в особенности) праволиберальных сил на выборах в Государственную Думу ФС
РФ, что означало вытеснение целого ряда некогда вполне системных сил в теневое пространство политики, их частичную маргинализацию [9].
-
Т. Становая же указывает на 2016 г. как на некий рубеж, ознаменовавший переход несистемных сил оппозиции в новое состояние: развал демократической коалиции привел к утрате ею возможности «заходить на системное поле российской политики» [10].
С организационно-политической точки зрения для более корректной периодизации трансформации несистемной оппозиции в 2000–2010 гг. интерес представляют три даты: июль 2006 г. (создание коалиции «Другая Россия»), октябрь 2012 г. (формирование Координационного совета российской оппозиции) и октябрь 2013 г. (кризис в рядах оппозиции). Однако следует признать, что ни «Другая Россия», ни тем более Координационный совет не отражали интересы большинства несистемных участников политического процесса и не обладали значительным влиянием на политическую динамику российского общества.
Нетрудно заметить, что большинство авторов, пытавшихся зафиксировать те или иные «рубежные точки» в трансформации российской несистемной оппозиции, в итоге концентрируют внимание на электоральном критерии периодизации, то есть останавливаются на привязке к очередному электоральному циклу. Это, по нашему мнению, еще раз подчеркивает, что, даже будучи вытесненной за пределы избирательного поля, несистемная политика развивается в фарватере той повестки дня, которую формирует действующая власть.
В силу этого оправданным представляется выделение трех основных этапов в деятельности российской несистемной оппозиции, связанных с электоральными процессами и повесткой дня, предлагаемой именно действующей властью. Первый этап (2000-2011 гг.) связан с выстраиванием вертикали власти, в которую в той или иной мере были инкорпорированы системные политические игроки, прежде всего, парламентские партии и отдельные независимые депутаты, политические эксперты и т. д. Параллельно происходят кардинальные изменения в массовом сознании российских граждан: формируется устойчивое «путинское большинство», что объективно приводит к «выдавливанию» или осознанному «уходу» части оппозиции на периферию политического поля. Причем речь идет о силах, различных по своим идеологическим установкам: от некогда респектабельных представителей либеральной части российского истеблишмента до условных националистов (патриотов, национал-демократов, имперцев), оказавшихся вне электорального пространства и не имеющих весомого влияния на политическую динамику общества.
Второй этап, началом которого можно считать «транзит» власти 24 сентября 2011 г. и последовавшие за этим «болотные» выступления против фальсификаций на выборах в Государственную Думу ФС РФ, характеризуется резкой активизацией всевозможных несистемных акторов политического процесса (чему косвенно способствовало смягчение законодательства о политических партиях и возврат к прямым выборам глав регионов). При этом психологический «эффект усталости» от несменяемости власти, неопределенность образа будущего, ощущение приближающегося экономического кризиса были частично купированы посредством «крымского консенсуса» 2014– 2017 гг., когда в фокусе общественного внимания оказались внешнеполитические проблемы: события на Украине и все более четко вырисовывающиеся контуры новой холодной войны с Западом [11, с. 393]. Свидетельством кризиса российской оппозиции в этот период являются данные социологических исследований. Так, согласно опросам ВЦИОМ, в 2016 г. с самим понятием «несистемная оппозиция» были знакомы 12 % россиян. При этом 72 % респондентов ответили, что «никогда не слышали» этого выражения. А те, кому оно «знакомо» (уже упомянутые 12 %), основными «несистемными» лидерами назвали А. Навального (15 %), М. Касьянова (10 %) и К. Собчак (4 %) [12].
Началом третьего этапа можно считать пенсионную реформу 2018 г. Он характеризовался резким снижением рейтинга нынешней власти, ростом протестных настроений в различных сегментах общества (включая молодежь) и, соответственно, новым всплеском активности несистемной оппозиции. При этом важно подчеркнуть, что действующая власть в 2018–2020 гг. сознательно вытесняла во внесистемное поле и те силы, которые не являлись радикальными и были изначально готовы «играть» по уже установленным правилам: участвовать в выборах различных уровней, даже понимая все несовершенство существующих электоральных процедур и свои более чем скромные шансы на итоговый успех («кандидаты Навального» на выборах в Московскую городскую Думу 2019 г., движение «За новый социализм» и т. д.). Так, данные социологических исследований свидетельствовали, что за представителя несистемной оппозиции в «своем» округе готово было проголосовать в среднем 6 % москвичей (для сравнения: за «провластного» кандидата - 29 %, за представителя какой-либо парламентской партии - около 18 %) [13].
Указанная тактика вытеснения оппозиции в несистемное политическое поле представляется не вполне эффективной по ряду причин. Во-первых, происходит своеобразная этическая и символическая реабилитация несистемных акторов политического процесса. Они утрачивают шлейф подчеркнутой маргинальности, перестают восприниматься как политические радикалы и популисты и обретают «человеческое» лицо. Во-вторых, происходит сужение легального электорального пространства, складывается ситуация крайне ограниченного выбора (а на региональном уровне часто и «выбора без выбора», поскольку многие системные оппозиционные лидеры тесно аффилированы со структурами действующей власти). В результате происходит либо серьезное падение явки на выборах, либо, как в отдельных случаях (Хакассия, Хабаровский и Приморский края, Владимирская область), всплеск протестного голосования. В-третьих, в условиях массовой интернетизации российского общества, роста популярности соцмедиа интернета несистемная оппозиция оказывается рельефно представленной в российском информационном поле, получает возможность доносить собственную точку зрения до значительной части российских граждан. При этом все попытки власти взять интернет-пространство под административный контроль (законы о мессенджерах и анонимайзерах, концепция суверенного интернета, попытки блокировки «Телеграмм», активизация использования статьи УК о распространении так называемых «фейков») пока оказываются недостаточно эффективными [14].
Анализируя технологии деятельности несистемной оппозиции в последнее время (2018– 2020 гг.), ряд исследователей и экспертов сходятся во мнении, что в оппозиционной среде имеет место определенный «кризис жанра». По существу, уже на протяжении долгого времени двумя основными тематическими линиями, вокруг которых строится критика действующей власти, являются коррупция и антисоциальная экономическая политика государства. При этом коррупционная проблематика занимает ведущее место в дискурсе правой и либеральной оппозиции, а антисоциальный характер проводимой государством политики активно эксплуатируется левопатриотическим сегментом. В данном ракурсе немаловажным фактом является то, что обе указанные ниши не являются результатом креатива оппозиционных сил, а представляют собой попытки «перехватить» и продуктивно использовать повестку дня, предлагаемую действующей властью. Особенно ярко это проявилось в связи с пенсионной реформой и неадекватными, по мнению ряда представителей левой оппозиции, действиями государственных структур в условиях эпидемии COVID-19. В частности, критике подверглись как «избыточные» меры по ограничению передвижения граждан (электронные пропуска в Москве и Московской области, «блокпосты» между муниципалитетами в Краснодарском крае и т. д.), так и недостаточная поддержка малого и среднего бизнеса. Таким образом, несистемная оппозиция активно использует технологию «перехвата» кризисной повестки дня, создаваемой действующей властью, при этом, как правило, не предлагая комплекса альтернативных решений, а лишь критикуя уже принятые меры.
Еще одной важной технологией деятельности несистемной оппозиции на современном этапе стало «встраивание» в социальные протесты локального характера, стремление использовать недовольство населения теми или иными социально-бытовыми проблемами (от мусорных полигонов до точечной застройки, повышения стоимости услуг ЖКХ и т. д.), а также обратить в свою пользу ряд внутрирегиональных конфликтов (наиболее яркие примеры – митинги в Приморье в сентябре 2018 г. в связи с отказом Кремля признать победу кандидата от КПРФ А. Ищенко на выборах главы региона и арест «народного губернатора» С. Фургала в Хабаровском крае в июле 2020 г.). По нашему мнению, такая тактика представляется достаточно продуктивной. Обращение к локальной тематике позволяет продемонстрировать определенную близость к повседневным проблемам людей, преодолеть отчуждение между несистемными оппозиционными силами (которые воспринимаются значительной частью населения как выразители интересов исключительно столичного «креативного класса», молодежи, «рассерженных горожан» и т. п.).
Характерной особенностью деятельности ряда несистемных игроков, не допущенных к участию в выборах, также является и активное использование технологии актуализации тотального протестного голосования («за кого угодно, только не за партию власти и примыкающих к ней самовыдвиженцев»), которая показала свою относительную эффективность в ходе выборов в Московскую городскую Думу в 2019 г. («умное голосование»). Таким образом, в последние два года несистемная оппозиция при всей своей разобщенности и внутренних конфликтах продемонстрировала способность к ситуационной координации действий в рамках электорального процесса, готовность к тактическим компромиссам для решения задач локального и регионального уровня.
Еще одна технология, которую пытаются (на наш взгляд, пока не очень удачно) использовать некоторые несистемные акторы, – конструирование представления о коллективном будущем как ответ на подчеркнуто ретроспективную риторику власти (которая включает в себя самые разнообразные сентенции – от ссылок на «половцев и печенегов» до нагнетания страха перед возвращением в «лихие девяностые»). Однако следует признать, что подобные «прообразы будущего» («прекрасная Россия будущего», «новый социализм», «альтернатива для России») выглядят недостаточно убедительно и не обладают весомым консолидирующим потенциалом для современного российского общества.
В связи с этим встает вопрос эффективных действий власти в отношении несистемных игроков политической оппозиции. Очевидно, что интеллектуальный (а не силовой, в рамках запретительных мер) ответ власти должен содержать как минимум три элемента. Первый – либерализация электоральных процедур с целью интеграции наиболее популярной, «умеренной» части несистемной оппозиции, готовой к диалогу, в легальное пространство российской политики, что предотвратит (или, по крайней мере, приостановит) радикализацию политических практик и рост конфликтности в обществе. Второй – переход к перспективной повестке дня, конструированию масштабного образа будущего (а не только в рамках национальных проектов и федеральных программ), которые позволят уйти от доминирования ретроспективной риторики и использования технологии страха («если они придут к власти, вы все вернетесь в лихие девяностые»). Третий – выработка механизмов политической, в том числе и электоральной, мобилизации граждан, отказ от тактики занижения явки на региональных и муниципальных выборах. Этот шаг позволил бы, с одной стороны, выстроить более продуктивный диалог «власть – общество», не выталкивал бы «в тень» (несистемность) значительную часть россиян, а с другой – во многом нивелировал обвинения в фальсификациях, которые сейчас являются одним из важнейших приемов несистемных акторов по дискредитации действующей власти.
Основные выводы. В рамках исследования нами было выделено три этапа трансформации деятельности российской несистемной оппозиции в 2000–2020 гг. Первый этап (2000–2011 гг.) характеризовался ее маргинализацией в условиях формирования устойчивого «путинского большинства» и персоналистcкой модели государственного управления. Второй этап (2012–2017 гг.) был связан с активизацией оппозиционных сил на фоне психологического эффекта усталости от несменяемости власти, избыточного административного давления на различные сферы жизни общества. Но в это время оппозиционные настроения были во многом купированы эффектом «крымского консенсуса», преобладанием геополитического дискурса в российской политической повестке дня. Третий этап (с 2018 г. по настоящее время), начало которому положила пенсионная реформа, ознаменовался снижением доверия к институтам действующей власти и ростом протестных настроений, прежде всего, социальной направленности.
Среди технологий, применяемых несистемной оппозицией сегодня, нами были особо выделены «встраивание» в локальные протестные движения; территориальная дифференциация общественных выступлений (перенос его «центра тяжести» из Москвы в регионы); актуализация тотального протестного голосования и попытки конструирования разнообразных привлекательных образов «России будущего».
Ссылки:
Редактор: Ситникова Ольга Валериевна Переводчик: Герасимова Валентина Евгеньевна
Список литературы Несистемная оппозиция в современной России: этапы трансформации и технологии политической деятельности
- Михайленок О.М., Щенина О.Г. Власть и несистемная оппозиция как субъекты политического согласия // Власть. 2016. № 7. С. 24-29
- Кузнецова О.А., Михайлов Д.А. Российская несистемная оппозиция в контексте стратегий деполитизации // Развитие территорий. 2018. № 2 (12). С. 27-32. DOI: 10.32324/2412-8945-2018-2-27-32
- Бродовская Е.В., Тюков Н.А. Методология и методика прикладного политического исследования гражданского активизма в социальных медиа современной России // Власть. 2020. Т. 28. № 2. С. 199-204. DOI: 10.31171/vlast.v28i2.7157
- Титов В.В. Стратегии социального протеста молодежи в Рунете: сравнительный анализ поколений Y и Z // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3 (157). С. 139-158. DOI: 10.14515/monitoring.2020.3.1674
- Титов В.В., Самохвалов Н.А. К вопросу о некоторых причинах омоложения протестных настроений в России // Via in Tempore. История. Политология. 2020. Т. 47. № 1. С. 211-217. DOI: 10.18413/2687-0967-2020-47-1-211-217