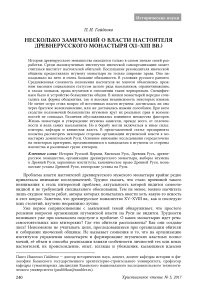Несколько замечаний о власти настоятеля древнерусского монастыря (XI-XIII вв.)
Автор: Гайденко Павел Иванович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Статья в выпуске: 5 (76), 2017 года.
Бесплатный доступ
История древнерусского монашества находится только в самом начале своей разработки. Среди малоизученных институтов иноческой самоорганизации может считаться институт настоятелей обителей. Послушание руководителя иноческой общины предоставляло игумену монастыря не только широкие права. Оно накладывало на него и очень большие обязанности. В условиях русского раннего Средневековья сложность положения настоятеля во многом объяснялась прежним высоким социальным статусом целого ряда насельников, ограничивавшим, в глазах монахов, права игуменов в отношении таких черноризцев. Специфичным было и устройство большинства общин. В жизни монастырей нередко сочетались как формы общежития, так и высокая независимость некоторых иноков. Не менее остро стоял вопрос об источниках власти игумена: достигалась ли она через братское волеизъявление, или же доставалась иными способами. При всем сходстве полномочий большинства игуменов круг их реальных прав и возможностей не совпадал. Различия обуславливались влиянием множества факторов. Жизнь монастыря и утверждение игумена зависели, прежде всего, от сплочен- ности и воли самих насельников. Но в борьбу могли включаться и иные силы: ктиторы, кафедры и княжеская власть. В представленной статье предпринята попытка рассмотреть некоторые стороны организации игуменской власти в монастырях домонгольской Руси. Основное внимание исследования сосредоточено на некоторых критериях, предъявлявшихся к кандидатам в игумены со стороны иночества и различных групп ктиторов
История русской церкви, киевская русь, древняя русь, древнерусское монашество, организация древнерусского монастыря, выборы игумена в древней руси, церковные институты, каноническое право древней руси, мона- шеские уставы древней руси, ктиторские уставы на руси
Короткий адрес: https://sciup.org/140223468
IDR: 140223468
Текст научной статьи Несколько замечаний о власти настоятеля древнерусского монастыря (XI-XIII вв.)
Проблема власти настоятелей древнерусского мужского монастыря крайне редко привлекала внимание исследователей. Трудно сказать, что стало причиной такого невнимания к столь интересной проблеме, актуальность которой видится самоочевидной и не требующей специального обоснования. Тем не менее, можно насчитать лишь скудное число работ, авторы которых попытались внести хоть какую-то ясность в этот вопрос. Заметим, что древнерусское монашество XV–XVIII вв., как и последующих столетий, изучено несравнимо лучше.
Уже первое соприкосновение с заявленной темой обнаруживает, что простого решения вопросов организации игуменской власти на Руси не видится. Трудности возникают уже при начальном подступе к проблеме. О каких монастырях идет речь: самостоятельных или ктиторских? Где эти обители расположены? Как они создавались? Невозможно не учитывать цели, преследовавшиеся при организации обители и собирании иноческой общины. Не вызывает сомнения и то, что на организацию институтов управления монастырем и формирование игуменских властных полномочий, её объем и способы реализации влияли особенности личностей тех или иных настоятелей, их происхождение, опыт, взгляды и убеждения, касающиеся идеалов
христианской жизни и монастырского устройства и т. д. Несомненно, власть игумена зависела и от того, кто её ему делегировал, и от того, как это оценивалось находящимися под его управлением черноризцами. Столь же сложно определиться с тем, о какой «власти» надлежит говорить: о канонической, о судебной или же об экономической и административной? Не менее острым видится и следующая группа вопросов: каким был объем этих властных полномочий, в какой форме и как интенсивно он выражался? Более того, существовало ли у современников затрагиваемого исторического периода понимание и различие власти фактической и формальной? Как оценивал свою власть сам игумен? Наконец, чем, кем и как таковая власть регламентировалась и ограничивалась? Перечень возникающих вопросов пестр и может утомить как своим числом, так и способностью создавать трудно преодолимые преграды. И всё же установление в обозначенной области определенной ясности способно в значительной мере облегчить понимание тех процессов, которые протекали в Древней Руси и внутри одного из важнейших его институтов, в монашестве.
При всей малоизученности заявленной проблемы в историографии нельзя сказать, что власть игуменов не получала отражения в источниках, прежде всего, агиографического характера: в патериках, в сказаниях и в житиях. Образы большинства настоятелей домонгольской Руси отражены в сказаниях Печерского патерика. Имена и образы игуменов сравнительно регулярно встречаются в записях как общерусского, так и местного летописания. Власть и деятельность игуменов и настоятелей, а также настоятельские полномочия обнаруживаются и прослеживаются в сюжетах житий святых Авраамия Смоленского, Антония Римлянина и Евфросинии Полоцкой, а также в первых частных актах и духовных, связанных с именами Варлаама Хутынского и уже упоминавшегося Антония Римлянина. Не меньше внимания уделено в источниках описанию игуменских обязанностей. Данная сторона настоятельской жизни прослеживается в первых канонических сводах митрополитов Георгия и Иоанна. Игумены фигурируют среди собеседников Кирика Новгородца и его преемников. Но особенно подробно полномочия настоятеля представлены в положениях Студийского устава. Наличие такого внимания современников к настоятелям во многом объясняется спецификой их положения во властной и политической иерархии Руси и, прежде всего, властных элит. Но помимо названных причин отмеченный интерес закономерен и по иным причинам. Составителями большинства дошедших до нашего времени письменных памятников были монахи. От воли и усилий настоятеля зависели материальное благополучие монашеской общины, а также судьбы братии, один из обетов которой предполагал послушание отцу-настоятелю. Фактически главы иноческих общин определяли распорядок жизни монастырей, выбирали уставы, ограничивали на территориях своих обителей власть архиереев и князей и даже в некоторых случаях вступали в конфронтацию с архиереями и даже «повелевали» епископами1. Всё перечисленное — ничто иное как власть, феномен, которой обладает особой, принципиальной важностью при оценке жизни монашества и в конце концов его истории.
Источники игуменской власти
Власть игумена может быть рассмотрена как в экклезиологической, так и в историко-канонической плоскости. Обозначенные подходы хоть и не исключают друг друга, но по-разному расставляют исследовательские акценты. В итоге, если в первом случае дело видится вполне ясным: игуменство отражает собой образ смиренного Христа-пастыреначальника, то во втором варианте поиск ответов предполагает затрату значительно больших усилий. Игуменство, которое может рассматриваться и как священническая степень, и как монашеское послушание, в церковной и иноческой среде могло восприниматься и как административная должность2, и как особое мистическое, благодатное монашеское служение3. Поэтому оценка административно-канонических и властных источников настоятельской власти не может быть дана без учета особого характера статуса главы иноческой общины.
Прежде всего, возникает вопрос: что и кто служили источниками власти игумена? Ответ на сформулированную проблему не прост, поскольку, как уже отмечалось, может разрешаться как в экклезиологической, так и в историко-канонической плоскости. Несомненно, власть игумена, делегировавшаяся в священном акте совершаемой святителем хиротесии или в монашеском избрании, сопровождавшемся не менее содержательными молитвословиями и символическими действиями, обнаруживалась божественное избрание, именуемое «благоволением»4. Одновременно поставление игумена отражало и формальное человеческое волеизъявление, выражавшееся в воле братии, ктитора или епископа5. Объясняя право монахов избирать себе игуменов, Савва Освященный утверждал, что такие действия не только не противоречат Божественной воле, но и соответствуют ей. Так, Печерский патерик подчеркивал, что при избрании братией Печерского монастыря Стефана вместо предложенной Феодосием кандидатуры пресвитера Якова была явлена не Божественная, а человеческая воля насельников6. Подобным же образом вкладывавшееся в уста прп. Антония Римлянина завещание, запрещавшее принимать игуменов, поставленных епископами и князьями без одобрения братии, настойчиво декларировало, что никакая отсылка к авторитету литургического действия7 не будет достаточной без согласия насельников монастыря. Судя по всему, в понимании прп. Антония или составителя данной житийной записи братское мнение, в отличие от патериковой истории, являло собой соборное решение. В епископском и княжеском выборе, шедшем вопреки братскому мнению, напротив, усматривали личные предпочтения власть имущих, мотивированные личными выгодами, мздой8. Примечательно, что не менее решительно братия Печерского монастыря отвергла предложенного Феодосием и завещанного ей в настоятели священника Иакова. Причина была понятна и проста. Иаков поступил в обитель уже будучи монахом, т. е. он не был постриженником этой прославленной обители9. Но в нашем случае важно иное. Священническое достоинство кандидата, выделявшее его из числа насельников и, вероятно, призванное по смерти Феодосия не допустить митрополичьей хиротонии, а вместе с ней и установления первосвятительской инвеституры над обителью10, не было принято братией в расчет. Более важным для иноков оказалось то, что Иаков был «чужим», а такая братская позиция вполне соответствовала нормам студийского общежития, препятствовавшим избранию на игуменство лиц, принимавших постриг в иных монастырях11. Подобная же человеческая воля являла себя в избрании князем Изяславом Ярославичем печерского инока Варлаама на игуменство в Дмитровский монастырь12. Даже решение Смоленского епископа поручить игуменство своим монастырем священноиноку Авраамию, хоть и представлено в Сказании о его житии как результат особого Божественного Промысла о многотерпеливом черноризце, однако не было лишено и человеческого расчета13. Не менее интересно участие городского населения Киева14 и Новгорода15 в избрании архимандритов16, а в отношении новгородцев и низложение горожанами неугодных им настоятелей Юрьевского монастыря17. Последнее обстоятельство особенно примечательно, поскольку обнаруживает открытость русской обители для вмешательств в её быт и устроение со стороны городского населения и светских ктиторов. Впрочем, в рассматриваемом контексте игуменская власть черпала свой авторитет в большей мере не в акте хиротонии и хиротесии, а в силе и авторитете человеческого изъявления, являвшегося в воле братии, решении епископа, княжеского желания или мнении городского веча. Именно такие формы волеизъявления, кажется, воспринимались в качестве отражения Божественной воли.
Критерии выбора игумена
Высота игуменского положения, вводившего настоятеля монастыря в круг высшей церковной иерархии города, земли и даже Руси требовала того, чтобы настоятель общины обладал особыми качествами или оказался способным выполнять возлагавшиеся на него непростые функции и обязанности. Студийский устав, служивший одним из образцов организации монашества на Руси, вполне четко определял те формальные и неформальные критерии, которым должен соответствовать игумен18. Однако необходимо заметить, что положение настоятеля обители, как правило, оказывалось таковым, что было вынуждено удовлетворять самым разнообразным ожиданиям и требованиям, нередко противоречившим друг другу и исходившим от разных лиц, участвовавших в возвышении кандидата. Число ожиданий порой оказывалось таковым, что в большинстве спорных ситуаций не предполагало простого решения в форме братского волеизъявления, святительской санкции или решения горожан, видевших в своих намерениях законное право ктитора или донатора обители. И когда происходило наложение всех этих непростых намерений, согласие избирателей, судя по всему, достигалось в результате сложных переговоров. Наиболее наглядный пример подобной ситуации — история избрания на игуменство в Печерский монастырь киевского священника Василия. Печерский патерик рассматривает возникшую тогда проблему как результат отсутствия единства внутри самой братии. После смерти игумена Поликарпа насельники обители долгое время не могли прийти к согласию о кандидатуре нового настоятеля. В результате они были вынуждены прибегнуть к помощи городского духовенства, киевлян и митрополита. Только после сложных и продолжительных споров, в которых приняли участие помимо братии еще и горожане, а также русский первосвятитель, сторонам удалось найти компромиссную фигуру в лице попа Василия19. Но и в последующих обстоятельствах, в постриге Василия, казалось бы, уже избранного кандидата, удовлетворявшего чаяниям всех, угадываются следы так и не угасшей борьбы митрополичьей кафедры с канонической независимостью Феодосиевой обители20.
Очевидно, что жизнь большинства древнерусских обителей не была оторвана и изолирована от внешних сил. Вероятно, это объяснялось тем, что домонгольский период в истории Русской Церкви может рассматриваться как время становления самой церковной организации, в значительной мере еще лишенной внутреннего единства. Это же годы зарождения её канонического права. При всем старании княжеской власти в XI — первой трети XIII вв. ей так и не удалось разрешить проблему разграничения церковной, княжеской и городской юрисдикций. Возникавшая неопределенность и отсутствие твердых норм регулирования спорных вопросов особенно отчетливо видны в устроении древнерусского монашества. Духовная прп. Антония Римлянина, запрещавшая вмешательство во внутреннюю жизнь монастыря князей и епископа21, обнаруживает, что к моменту смерти прп. Антония, бывшего ктитором им же собранной общины22, правовое положение обители оказывалось таковым, что действия каждой из сторон: братии (коллективного собственника монастыря), епископа (обеспечение благочиния и соблюдение канонических норм) и князя (защита городских прав), — даже по такому важнейшему вопросу, как избрание игумена, было «по-своему» законным. Приятие внешнего управления или же отторжение его в значительной мере зависело от решения братии монастыря. В условиях господства прецедентного права даже единичное признание присланного князем или святителем игумена раз и навсегда лишало обитель автономии и самостоятельности, устанавливая над ним патронат стоявшей за новым аввой силы23.
О том, насколько могли не совпадать интересы участвовавших в выборе игумена сторон, можно судить по тому, что они ожидали от обители и её настоятеля. А их запросы разнились. Не вызывает сомнения то, что каждая из сторон стремилась обеспечить монастырю благоденственное существование. Но это не означает, что ими не могли двигать и иные намерения. Впрочем, об этих целях можно лишь догадываться, основываясь главным образом на косвенных свидетельствах.
Ктиторы монастыря. Спектр ктиторов (устроителей и донаторов) монастырей и храмов был разнообразен. В нем можно обнаружить как князей и епископов, так и представителей самых разнообразных состоятельных слоев древнерусского общества. Заботы ктиторов о созданных или о находящихся на их содержании обителях объяснялись несколькими причинами. Во-первых, они были заинтересованы в молитвенном поминовении, что требовало поддержания внутреннего строя обители и её духовных свобод. А во-вторых, вложения в монастырь или храм нуждались в их разумном использовании и сбережении. Таковые вклады еще нельзя рассматривать в качестве капитала, и всё же это было своего рода долговременное вложение, служившее, с одной стороны, в некоторых случаях родовым запасом, а с другой — средствами, призванными обеспечить содержание обители и её безбедное существование, т. е. доход. Во всяком случае, обитель была не столько собственником передававшегося ей имущества и недвижимости, сколько пользователем и распорядителем24. В складывавшихся условиях, обеспечивая присутствие на игуменском послушании выгодной для себя личности, ктитор гарантировал и защищал благополучие сделанных «инве-стиций»25. Впрочем, выбор игумена со стороны ктитора мог объясняться и иным. Так, возвышение выведенного князем Изяславом на игуменство Варлаама летописцем объяснялось амбициями старшего сына Ярослава Владимировича. Князь желал, чтобы созданный им Дмитров монастырь превзошел своей славой и своим богатством все ранее учрежденные обители, в том числе Печерский монастырь26. Более высокими видятся мотивы ктиторов, которые сами же были игуменами. Для них оставалось важным сохранение и поддержание монашеских идеалов, а также независимости от внешних сил и жизнеспособности созданной общины27.
Интересы епископата. Не вызывает сомнения тот факт, что избрание и поставление игуменов было тесно связано с архиерейскими кафедрами, преследовавшими свои собственные интересы. В условиях слабости и зависимости епископата от воли горожан или княжеского изъявления расширение святительского влияния на монастыри необходимо рассматривать как одну из важнейших задач святительской власти XI–XIII вв. С точки зрения византийского права, полномочия епископата в организации монашеской жизни в границах округа не могут быть поставлены под сомнение28. Однако реалии Руси были иными. Каноническая организация епископий отличалась узаконенной княжескими иммунитетами сложностью, допускавшей помимо архиерейской и множество иных юрисдикций, в свою очередь обладавших правами широкой автономии: княжеской, ктиторских боярских, купеческих и уличанских самостоятельных монастырей и храмов и даже латинских миссий. Несомненно, что описанное положение в различных епископских центрах разнилось. Тем не менее, это не делало ситуацию проще, тем более, что существование подобных автономий, как уже отмечено, порой закреплялось княжескими грамотами или по меньшей мере волей князя29. Если в конце XI — первой половине XII в. возникшую проблему пробовали разрешать через попытку усвоить митрополиту и епископу право решать вопросы церковного благочиния, поставив нравственную жизнь обителей, монашества и настоятелей под контроль святителя, что, впрочем, не предполагало обязательного вмешательства во внутреннюю хозяйственную, административно-каноническую и даже литургическую жизнь независимых храмов и обителей30, то со второй половины XII в. действия местных епископов уже отличались решительностью и большей продуманностью31, что в совокупности стало постепенно, но неуклонно изменять ситуацию в пользу кафедр.
Поставление епископом игумена, или, по меньшей мере, обеспечение присутствия на столь важной должности лица, лояльного кафедре, имело для святителей принципиальное значение. Это не только расширяло полномочия архиерея и склоняло под его омофор новых представителей тех групп населения, которые подпадали под категорию церковных людей32, но и позволяло кафедре устанавливать контроль над материальными ресурсами монастыря. О степени злоупотреблений ростовских архиереев, например, можно судить по панегирику, включенному его составителем в летописание. Епископы в этой пространной похвале почившему святителю Пахо-мию, составленной монахом, предельно откровенно сравнивались с ворами и волками, то есть с диаволом33. Подобное подчинение решало и иную не менее важную задачу: упраздняло в среде духовенства какую-либо оппозиционность, вновь-таки укрепляя власть святителя. Небезынтересно, что продолжительный период значительная часть монастырей и даже храмов оставалась неподотчетной епископу, присутствие которых не отмечалось летописанием даже во время их закладки либо рассматривалось как исключительное событие в жизни обители и целого княжества34. В итоге, сама форма поставления игумена, которую можно рассматривать и как вну-трицерковную инвеституру, фактически лишала монастыри автономии, вводя в них епископское управление, осуществлявшееся через настоятеля, должность которого через нескольких столетий, с XVIII в., приобретет уже иное именование: «наместник» (представитель епископа), окончательно передав настоятельство в руки архиерея. Очевидно, что такое вмешательство архиереев вызывало в большинстве случаев, когда дело касалось самостоятельных монастырей, неприятие и протест. Они ясно обнаруживаются в конфликтах Печерского монастыря с местными митрополитами, а также в уже упоминавшихся запретах, наложенных прпп. Антонием Римлянином и Варлаамом Хутынским на принятие игуменов от епископа. Правда, отношение прославленных новгородских настоятелей к княжеской власти не совпадало. Если прп. Антоний и его преемник Андрей категорически отказывались от кандидатур, определявшихся князем, то прп. Варлаам, напротив, обязывал братию заручаться его поддержкой. Примечательно, что по этому же пути пошел и находившийся на смертном одре прп. Феодосий, упросивший князя Святослава побеспокоиться о монастыре35. Поддержкой князя в своем противостоянии с киевской кафедрой заручился еще один печерский игумен, Поликарп. В итоге содействием князя многострадальному Поликарпу был дарован титул архимандрита, выведший того из-под зависимости русского первосвятителя и поставивший прославленного настоятеля на одну ступень с епископатом36.
Намерения насельников обители. Братия монастыря также имела свои ожидания. Правда, к сожалению, необходимо отметить, она крайне редко высказывала свое мнение. Во всяком случае, только история Печерского монастыря сохранила примеры того, как насельники обители являют свою позицию в вопросе выбора игумена. Чаще же позиция братии оказывалась пассивной. Объяснить причину таких умонастроений и такой жизненной позиции довольно сложно. Об этом можно лишь догадываться. Вероятно, их безразличие, а именно этим можно объяснить появление категорических запретов прпп. Антония и Варлаама, объяснялось культивированием самих монашеских идеалов смирения и почтения перед святительской властью как преемницей апостольской благодати. Не исключено, что к такому поведению могли подталкивать и внутренние нормы жизни обители. Во всяком случае, тот же прп. Кирик Новгородец и полсловом не обмолвился о жизни родной обители, явив при этом пример предельно почтительного отношения к властному епископу Нифонту37.
Вероятно, когда наступала череда стать свидетелями споров о кандидатуре очередного претендента на игуменское место, братия предпочитала удаляться от подобных споров. Примечательно, что знаменитый князь-инок Никола Святоша практически ни разу не отмечен как активный участник внутримонастырской жизни Печерской обители. Земные устремления большинства братьев были минимальны и ограничивались переживаниями о приличной для них пище, о сне и об общении с иными насельниками38. При таких условиях ожидать от братии большинства монастырей чувства ответственности за вручаемое им наследие видится делом если не наивным, то уж, несомненно, завышенным.
Всё изложенное выше позволяет увидеть, что должность игумена имела, безусловно, ключевое значение в жизни обители. Передававшиеся монастырю средства, а также молитвенная жизнь монастыря были тем капиталом, который крайне высоко ценился в условиях жизни Средневековья. Не менее остро стояла проблема обеспечения единства и унификации церковного управления. В этих условиях положение игумена оказывалось крайне сложным и неоднозначным. Однако все высказанные идеи носят предварительный характер и нуждаются в дальнейшем уточнении.
Список литературы Несколько замечаний о власти настоятеля древнерусского монастыря (XI-XIII вв.)
- Алексеев Л. В. Крест преподобной Евфросинии Полоцкой//Российская археология.1993. № 2. С. 70-78.
- Аранц Михаил SJ Избранные сочинения по литургике: в 5 т. Т. 1: Таинства Византий-ского Евхология. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2003. 616 с.
- Бондарь С. В. Антропологические воззрения св. Кирилла Туровского в контексте хри-стианского учения о человеке//Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях: Альма-нах/под ред. д. и. н. П. И. Гайденко. СПб.; Казань, 2015. Вып. 4. C. 197-281.
- Вопросы Кирика, Саввы и Ильи, с ответами Нифонта, епископа Новгородского,и других иерархических лиц//Русская историческая библиотека. Т. 6: Памятники канони-ческого права. Ч. 1: Памятники XI-XV в. СПб., 1880. Стб. 21-62.
- Вопрошание Кириково (Перевод)//Мильков В. В., Симонов Р. А. Кирик Новгородец:учёный и мыслитель/Памятники древнерусской мысли: исследования и тексты. Вып. 7;отв. ред. И. А. Григорьева. М.: Кругь, 2011. С. 413-428.
- Гайденко П. И., Москалёва Л. А., Фомина Т. Ю. Церковь домонгольской Руси: иерархия,служение, нравы. М.: Университетская книга, 2013. 150 с.
- Галимов Т. Р. Русская церковная иерархия в княжеских междоусобицах середины XII -первой трети XIII вв.//Вестник Челябинского государственного университета. Серия:История. 2012. Вып. 52. № 25 (279). С. 104-114
- Георгий(Шестун), архим. Танство монашеского пострига// Сайт Синодальногоотдела по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви «Монастырский вест-ник». URL: htp://monasterium.ru/publikatsii/2013-06-03-11-13-12/2080-tainstvo-monasheskogo-postriga/ (дата обращения: 03.06.2017) древнерусской мысли: исследования и тексты; отв. ред. И. А. Григорьева. М., 2011. Вып. 7. С. 414[Кирик 8].38 Б. А. Романов хоть и справедливо, но излишне строго оценивал жизнь древнерусскихиноков. Между тем, и житие Феодосия Печерского, и проповеди Кирилла Туровского даютполные основания говорить о том, что проблема поддержания аскетических идеалов в иноче-ской среде не утрачивала своей актуальности на протяжении всего домонгольского периода(см. подробнее: Житие Феодосия Печерского… С. 336-339; Повесть Кирилла, многогрешногомонаха, о белоризцах и о монашестве, о душе и о покаянии - Василию, игумену Печерско-му // Колесов В. В. Творения бл. Кирилла Туровского. Притчи, слова, молитвы. Исследованияи тексты / публ., коммент., предисл., пер. В. В. Колесова. М., 2009. С. 45, 51; Кирилла, епископаТуровского, сказание о черноризском чине из Ветхого Завета и Нового: того носит образ, а этогонаполняет делами // Там же. С. 56, 63; Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси: историко-бы-товые очерки. М.; Л., 1966. С. 161-168.
- Данная Антония Римлянина Антониеву монастырю на землю у реки Волхова,купленную им у Смехна и Прохна Ивановых детей//Грамоты Великого Новгородаи Пскова/подг. к печати В. Г. Гейман, Н. А. Казакова и др.; под ред. С. Н. Валка. М.; Л.:Изд-во АН СССР, 1949. С. 159.
- Духовная Антония Римлянина//Грамоты Великого Новгорода и Пскова/подг.к печати В. Г. Гейман, Н. А. Казакова и др.; под ред. С. Н. Валка. М.; Л.: Изд-во АН СССР,1949. С. 159-161.
- Житие Авраамия Смоленского//Библиотека литературы Древней Руси. Т. 5: XIIIвек/под ред. Д. С. Лихачёва, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб.: Наука,2005. С. 30-65, 456-459.
- Житие Феодосия Печерского//Памятники литературы Древней Руси: XI -началоXII века/сост. и общ. ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачёва. М.: Художественная литера-тура, 1978. С. 305-392, 456-458.
- Иларион (Алфеев), митр. Монашество как таинство Церкви // Портал Pravoslavie.ru.URL: htp://www.pravoslavie.ru/64415.html (дата обращения: 03.06.2017).
- Киево-Печерский Патерик//Библиотека литературы Древней Руси. Т. 4:XII век/под ред. Д. С. Лихачёва, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб.:Наука, 2004. С. 296-489, 641-667.
- Кирилла, епископа Туровского, сказание о черноризском чине из Ветхого Заветаи Нового: того носит образ, а этого наполняет делами//Колесов В. В. Творения бл. КириллаТуровского. Притчи, слова, молитвы. Исследования и тексты/публ., коммент., предисл.,пер. В. В. Колесова. М.: Палея, 2009. С. 53-64.
- Литвинова Л. В. Игумен//Православная Энциклопедия. М.: ЦНЦ «Православная эн-циклопедия», 2009. Т. 21. С. 168-172.
- Максимович К. А. Законодательство императора Юстиниана I о монашестве (часть 1):новеллы V и LXXIX//Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универ-ситета. Серия 1: Богословие. Философия. 2007. Вып. 4 (20). С. 38-51.
- Максимович К. А. Новелла CXXIII св. императора Юстиниана I (527-565 гг.) «О различ-ных церковных вопросах» (перевод и комментарий)//Вестник Православного Свято-Тихонов-ского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. 2007. Вып. 3 (19). С. 22-54.
- Месяца мая в 23-й день житие преподобныя матери нашея Евфросинии//Житиясвятых в древнерусской письменности: Тексты. Исследования. Материалы/отв. ред., сост.,вступ. ст. М. С. Крутовой. М.: ПСТБИ, 2002. С. 153-169.
- Пётр (Гайденко), иером. Были ли епископат и духовенство Киевской Руси феодала-ми?//Православие в судьбе Урала и России: история и современность: Материалы Всерос.науч.-практ. конф. (г. Екатеринбург, 18-20 апреля 2010 г.). Екатеринбург: ИИА УрО РАН;Изд-во Екатеринбургской епархии, 2010. С. 85-89.
- Повесть Кирилла, многогрешного монаха, о белоризцах и о монашестве, о душеи о покаянии -Василию, игумену Печерскому//Колесов В. В. Творения бл. Кирилла Ту-ровского. Притчи, слова, молитвы. Исследования и тексты/публ., коммент., предисл., пер.В. В. Колесова. М.: Палея, 2009. С. 41-52.
- Полное собрание русских летописей. Т. 1: Лаврентьевская летопись. М.: Языки сла-вянской культуры, 2001. 496 с.
- Полное собрание русских летописей. Т. 2: Ипатьевская летопись. М.: Языки славян-ской культуры, 2001. 648 с.
- Полное собрание русских летописей. Т. 3: Новгородская летопись старшего и млад-шего изводов. М.: Языки славянской культуры, 2000. XII, 720 с.
- Присёлков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X-XII вв.СПб.: Наука, 2003. 246 с.
- Сказание о житии преподобного Антония Римлянина//Святые русские римляне:Антоний Римлянин и Меркурий Смоленский/подг. текстов и исслед. Н. В. Рамазановой.СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. С. 233-272.
- Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам: в 3 т. Т. 1: Житие св.княгини Ольги. Степени I-X/отв. ред. Н. Н. Покровский, Г. Д. Ленхофф. М.: Языки славян-ских культур, 2007. 598 с.
- Текст Студийско-Алексиевского устава//Пентковский А. М. Типикон патриархаАлексия Студита в Византии и на Руси. М.: Изд-во Моск. Патриархии, 2001. С. 333-420.
- Устав князя Владимира о десятинах, судах и людях церковных//Древнерусскиекняжеские уставы XI-XV вв./сост. Я. Н. Щапов, отв. ред. Л. В. Черепнин. М.: Наука, 1976.С. 16-19.
- Устав князя Ярослава о церковных судах//Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв./сост. Я. Н. Щапов, отв. ред. Л. В. Че-репнин. М.: Наука, 1976. С. 85-91.
- Устав новгородского князя Всеволода Мстиславича купеческой организации церквиИвана на Опоках//Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв./сост. Я. Н. Щапов, отв.ред. Л. В. Черепнин. М.: Наука, 1976. С. 158-167.
- Устав новгородского князя Всеволода о церковных судах, людях и мерилах торго-вых//Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв./сост. Я. Н. Щапов, отв. ред. Л. В. Череп-нин. М.: Наука, 1976. С. 153-158.
- Преподобного Варлаама Хутынского, Новгородского Чудотворца//Амвросий(Орнатский), еп. Древнерусские иноческие уставы: Уставы российских монастыреначаль-ников. М.: Северный паломник, 2001. С. 32-34.
- Филиппов В. Г. К вопросу об источниках материального обеспечения древнерусскихмонастырей//Вестник Челябинского государственного университета. Серия: История.Вып. 52. 2012. № 25 (279). С. 115-123.
- Фомина Т. Ю. Епископская власть в домонгольской Руси: истоки, становление, разви-тие. М.: Университетская книга, 2014. 360 с.
- Хиландарский устав // Православная электронная библиотека портала Pravoslavie.ru.URL: htp://lib.pravmir.ru/library/readbook/2199 (дата обращения: 03.06.2017).
- Чиновник архиерейского священнослужения: в 2 кн. М.: Изд-во Моск. Патриархии,1982. Кн. 1. 251 с.38. Щапов Я. Н. Государство и церковь Древней Руси X-XIII вв. М.: Наука, 1989. 232 с.
- Янин В. Л. Очерки истории средневекового Новгорода. М.: Языки славянских куль-тур, 2008. 400 с