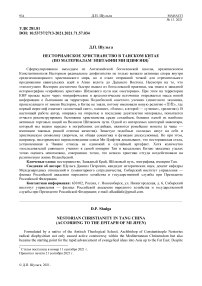Несторианское христианство в танском Китае (по материалам эпитафии Ми Цзифэня)
Автор: Шульга Д.П.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Эпиграфика
Статья в выпуске: 13, 2021 года.
Бесплатный доступ
Сформулированное выходцем из Антиохийской богословской школы, архиепископом Константинополя Несторием радикальное диофизитство не только вызвало активные споры внутри средиземноморского христианского мира, но и стало отправной точкой для стремительного продвижения евангельских идей в Азию вплоть до Дальнего Востока. Несмотря на то, что«теологумен» Нестория достаточно быстро вышел из богословской практики, мы знаем в западной историографии «сирийских христиан» Шёлкового пути как «несториан». При этом на территории КНР прежде всего через эпиграфические и археологические источники открывается масса новой информации о бытовании на территории Поднебесной «светлого учения» (известного экзонима,происходящего от имени Нестория, в Китае не знали, потому именовали новую религию «景教», гдепервый иероглиф означает «солнечный свет», «сияние», «блеск», а второй - «учение», «религия»). В настоящей работе автор, опираясь на открытые в последние десятилетия материалы, попытается отчасти реконструировать бытование христианства среди согдийцев, бывших одной из наиболее активных торговых наций на Великом Шёлковом пути. Одной из интересных категорий инвентаря, который мы видим нередко в погребениях согдийцев, являются ромейские монеты (а чаще - имитации таковых разной степени качества). Зачастую подобные «солиды» несут на себе и христианскую символику (впрочем, их общая семантика и функции дискуссионны). Но при этом, например, несторианское вероисповедание семьи Ми Цзифэня доказывают, что несторианская стела, установленная в Чанане отнюдь не одинокий и случайный артефакт. Хотя количество«последователей сияющего учения» в самой империи Тан и вассальных Китаю западных уделах точно оценить невозможно, совершенно точно, что немало христиан оттуда воздействовали на религиозную жизнь Поднебесной.
Несторианство, западный край, шёлковый путь, эпиграфика, империя тан
Короткий адрес: https://sciup.org/14123595
IDR: 14123595 | УДК: 281.81
Текст научной статьи Несторианское христианство в танском Китае (по материалам эпитафии Ми Цзифэня)
Несмотря на то, что в отечественной науке изучение несторианства в Западной Азии (Залесская 1998: 18—21) и раннесредневековом Китае было начато еще как минимум в советскую эпоху (Кычанов 1978: 76—85; Никитин 1984: 121—137) и продолжилось в XXI в. (Сальников 2002: 110—117), целый ряд важных источников по данной тематике до сих пор остаются неизвестными для русскоязычных исследователей. Одним из примеров является эпитафия Ми Цзифэня (714—805 гг.), обнаруженная в 1955 г. на территории одного из западных пригородов г. Сиань, в районе Тумэньцунь. Несмотря на давность находки, она практически не представлена в отечественной научной литературе (в англоязычных работах подчас фигурирует (Ashurov 2013: 55)), являясь, при этом, ценнейшим источником как для востоковедения, так и для истории христианства. Полное название данного эпиграфического источника звучит как « 唐神策军散府将游骑将军守武卫大将军兼试太常卿上柱国米继芬墓志铭 », что можно перевести примерно как «Эпитафия Ми Цзифэня, командира конной дворцовой гвардии, сановника, высшей опоры государства». Далее автор приведёт художественный перевод текста:
«Носитель запретного для написания1 имени Цзифэнь происходил из аристократического рода княжества Миго в Западном Крае, имел множество талантов и добродетелей. Дед достопочтенного носителя запретного имени ( имеется ввиду Цзифэнь — прим. Д.Ш .) занимал в своей стране высокий пост помощника министра. Отец, хотя был по происхождению из народа тюргешей, даже находясь далеко [от Поднебесной], жаждал испытать облагораживающее влияние добродетельного царствования, он прибыл в столицу, где удостоился милостей и был приглашён ко двору, получил назначение на должность «левого»2 командующего, оберегающего
МАИАСП № 13. 2021
государство. Сын ( имеется ввиду Цзифэнь — прим. Д.Ш .) воспитывался в китайской традиции и унаследовал таланты и положение отца, поступив в гвардию. [Цзифэнь] с юности проявлял почтение к старшим, уважение к родственникам, ревностно служил государству, он культивировал в себе семь достоинств и четыре добродетели. Его поведение всегда было прямодушным, поступки — честными, он всегда, даже в сложных ситуациях, следовал моральному долгу. Словом, таланты и достойные подражания личные качества были подобны спелым плодам, что склоняют ветви деревьев или глубочайшим озёрам. В почтенном возрасте его сразили недуги. В конце концов, свершивший столькие подвиги и благодеяния ушёл от нас навсегда. В первый год царствования под девизом Юнчжэнь, на девятый месяц в двадцать первый день он скончался в уезде Лицюань в собственном доме. На тот момент ему было девяносто два года. Девятнадцатого числа двенадцатого месяца тело было помещено для временного погребения в столице, Чанане, у Ворот дракона. Вдова, госпожа Ми Ши вскоре последовала за мужем, не выдержав горечи утраты. У усопшего осталось два сына. Старший [по имени Гоцзин] хорошо продвинулся на государственной службе, став одним из «правых» командующих, служил в Нинъюане, а также занимался охраной столицы. Младший [по имени Сыюань] окружил себя мудростью и выбрал путь монаха, поселился при храме религии Великой Цинь. Траур по усопшему был долгим. Все предавались неподдельной скорби и соблюдали ритуалы. В конце концов, погребальные мероприятия были завершены в должной форме и была создана эта недостойная эпитафия, лишь отчасти передающая неисчислимые достоинства покойного. Говорится: судьба государства трудна, но беззаветная преданность и чувство долга остаются в веках. Доблестный и могучий всегда обретает славу. Достоин тот, кто даже рискуя жизнью стремится проявлять лучшие качества. Сокрушающий козни становится достойным почёта. Умерший был высокопоставленным военачальником, прожил долгую жизнь в уважении, и ушёл в высокие залы блаженства после болезни. Стойкий и непоколебимый, как сосна и кипарис, он ушёл в чертоги запада. И потому помещена сия эпитафия»3.
Перед нами, казалось бы, достаточно типичный китайский текст, с традиционными метафорами и оборотами. Запад выступает как направление, куда уходят души усопших, а сосна и кипарис являются символом непреклонности. Имеются отсылки к конфуцианству, например, принципу сыновней почтительности ( сяо ). Но четыре иероглифа, в отношении младшего сына, « 住大秦寺 » представляют для истории христианства в Китае колоссальный интерес. Перевод фразы — «живет в храме [религии] Великой Цинь». Может показаться, что последний топоним вполне ясен и означает Римскую державу (включая и период Восточной империи). Это в основном верно, однако здесь есть ряд нюансов. Еще Ф. Хирт на рубеже XIX—XX вв., проанализировав большое количество письменных источников сформулировал свою точку зрения, согласно которой, Великая Цинь (позже — Фулинь), было не Римской империей со столицей в Риме, а только ее восточной частью, а именно Сирией и
МАИАСП № 13. 2021
Несторианское христианство в танкском Китае (по материалам эпитафии Ми Цзифэня) прилегающими районами (Hirth 1913: 200—203). Если принять такую трактовку, то «религия Великой Цинь» может переводиться по смыслу не как «Римская религия», а как, например, «Сирийская религия».
Ф. Хирт и более поздние исследователи чаще всего брали информацию из пяти письменных источников, составленных во II—VI вв. н.э.:
-
1. «Хоу Ханьшу» за авторством Фань Е ( 范曄 ), который жил между 398 и 445 гг., во время правления династии Лю-Сун ( 劉宋朝 );
-
2. «Вэй Люэ» (краткая история Вэй) был составлен историком Юй Хуаном ( 魚豢 ) до 297 г.;
-
3. Памятник «Цзинь шу», который был составлен в VII в.;
-
4. «Вэй шу», т.е. История династии Северная Вэй» ( 北魏朝 ). «Вэй шу» относится к периоду между 386 и 556 гг., но во многих моментах цитирует высказывания «Хоу Ханьшу» и «Вэй люэ». Автор — Вэй Шоу ( 魏 收 );
-
5. Памятник «Сун шу», был составлен Шен Юэ ( 沈約 ), историком династии Лян ( 梁朝 ) в VI в.
Все пять китайских источников описывают, кроме прочего, географию Великой Цинь. Согласно данным источникам, Великая Цинь находится в Хайси ( 海西 ), т.е. к западу от моря. Кроме того, «Вэй люэ» указывает на то, что страна расположена к западу от Аньси4 ( 安息 ), Тяочжи и Великого моря ( 大海 ). Помимо этих данных, «Хоу Ханьшу» дает более подробную информацию: в 3400 ли ( 里 ) к западу от Аньси находится королевство Аман ( 阿蠻 ), пройдя 3600 ли к западу от Амана можно добраться до Сибина ( 斯賓 ), отсюда нужно повернуть на юг, пересечь реку и отправиться на 960 ли на юго-запад в царство Юйло ( 于羅 ). Это крайняя западная граница Аньси, откуда нужно идти вдоль моря на юг, и добраться до Великой Цинь.
Источники также дают информацию о столице Великой Цинь. Согласно «Вэй люэ», она находится в устье реки, «Цзинь шу» добавляет, что протяженность города составляет более ста ли, в «Вэй шу» говорится, что название столицы — Аньду5 ( 安都 ). В данных пяти источниках есть также некоторые подробности об управлении в Великой Цинь: «Ежедневно король отправлялся во дворцы, чтобы решать вопросы. Он посещал все дворцы в течение пяти дней».
«Хоу Ханьшу» и «Вэй люэ» дают подробности образа жизни в Великой Цинь. Согласно китайским представлениям, жители Великой Цинь окружали города стенами, ставили павильоны ( 亭 ) через каждые 10 ли, а почтовые станции ( 置 ) через каждые 30 ли, как в Поднебесной, ездили в маленьких экипажах, покрытых белым навесом, под барабанный бой, размахивая флагами. «Вэй люэ» и «Цзинь шу» указывают, что они понимали письменность иноземцев и имели многоэтажные общественные и частные здания. Кроме того, местные жители высокие и добродетельные, напоминают китайцев. Они бреют свои волосы и бороду, а также, как сообщает «Вэй люэ», могут использовать магию.
Все пять источников дают представление о хозяйстве Великой Цинь. Согласно, например, записям «Хоу хань шу», в регионе было много различных видов деревьев, таких как сосны, кипарисы, ивы, бамбук и так далее. Кроме того, жители сажают зерно, разводят лошадей, мулов, верблюдов, ослов и шелкопрядов (Hoppál 2011: 279—299).
Некоторая причудливость китайских представлений о Средиземноморье в первую очередь объясняется отсутствием прямых сношений и «общением через третьих лиц». Можно утверждать, что опосредованные контакты были весьма масштабными. На это указывают как многочисленные оформленные в античном стиле артефакты, обнаруженные в западных (Jones 2009: 23—32) и центральных (Гэ Чэнъюн 2015: 111—125) районах КНР (Гэ Чэнъюн 2018: 58—
МАИАСП № 13. 2021
69), так и ромейские солиды (Li Qiang 2005: 279—299) и их имитации (Ло Фэн 1993: 17—19). Причем обе категории инвентаря есть даже в степной зоне севернее Китая, на территории современной Монголии (Го Юньянь 2016: 115—123).
Отдельным фактором было несторианство. Оно возникло из антиохийского богословия Феодора Мопсуестийского, и постепенно было вытеснено из Pax Romana в глубины Азии. Именно это учение, как отмечалось выше, и было названо в Поднебесной «религией Великой Цинь» (У Чансин 2015: 187—215). Однако следует учитывать, что к тому моменту, когда христиане из Сирии дошли до Китая, их собственные представления о жизни в Средиземноморье могли сильно исказиться. К этому также следует добавить, что многие несториане и вовсе были изначально подданными державы Сасанидов.
Помимо дальних расстояний важную роль играли те языки, на которых в Чанань приносили известия о дальней империи на западе. Прибавим к этому еще и свойственную любому народу, особенно в рамках традиционного общества, интерпретацию чужого через привычное. Примечательно, однако, что источники демонстрируют уважение Хань, Тан и других династий к Римской (в т.ч. Восточной) державе (Christopoulos 2012). Очевидно, что интеллектуалы в Поднебесной признавали, что их Срединное государство находится на одном культурном уровне с «Великой Цинь». На это указывает и само выбранное название. Историческое Цинь — западное китайское царство, объединившее к концу III в. до н.э. все другие уделы в первую империю. Потому условный Рим понимался как «великая держава на западе, сопоставимая с Китаем». С раннего средневековья, очевидно, престиж ромейского государства был высок, в том числе, благодаря распространившимся по Великому Шёлковому пути золотым солидам (Го Юньянь 2006). Учитывая вышесказанное естественно, что до сих пор остается открытым вопрос, относится ли термин «Великая Цинь» ко всей Римской Империи или только её восточным регионам. Думается, что всё зависело от конкретного источника. При всей дискуссионности дефиниций, эпитафия Ми Цзифэня и иные эпиграфические источники (Ян Гунлэ 2009: 120—121) указывает, что несторианство в империи Тан ассоциировалось именно с Великой Цинь.
Уникальность переведённой автором эпитафии заключается в том, что перед нами одно из свидетельств двойственности позиций христианства в раннесредневековом Китае. С одной стороны, у нас мало свидетельств активного включения собственно «хуася»6 в церковную жизнь. Но с другой — можно уверенно говорить о том, что служилые иноплеменники, сделавшие карьеру в эпоху Тан, не просто проявляли интерес к несторианству, но, уже добившись включения в наследственную аристократию, отдавали своих сыновей в монахи (или, как минимум, не порицали это и не препятствовали).
Примечательно, что похожая ситуация повторилась и в эпоху Юань (1271—1368 гг.), после того как бассейн сперва Хуанхэ, а затем и Янцзы, был завоеван монголами. На могильнике Аолуньсуму (городской округ Баотоу, Внутренняя Монголия, КНР) было обнаружено погребение несторианина Аулабяня Тецзямусы из племени онгутов. Ушедший в тридцать шесть лет, он дослужился до титула даругачи , т.е. чиновника, контролировавшего деятельность управленцев, приглашаемых из-за границ империи7. Среди последних христиане также присутствовали. Это доказывает расположенный в горах Иньшань несторианский
МАИАСП № 13. 2021
Несторианское христианство в танкском Китае (по материалам эпитафии Ми Цзифэня)
некрополь Ванмулян, где покоились представители клана Елюй, очевидно, происходившие от каракитаев (Вэй Цзянь, Чжан Сяовэй 2013: 199—209).
Приведённые выше примеры наглядно демонстрируют, что и в раннее средневековье (при Тан), и в XIV в. христианство было в Поднебесной не только религией торговцев, действовавших на Шёлковом пути, к нему принадлежала и заметная часть высокопоставленных деятелей из числа служилых иноземцев, вполне инкорпорированных в китайское общество. По традиции мы именуемых последователей «религии Великой Цинь» несторианами (Чжан Сюйшань 2006: 76—88), однако реконструировать их христологию, к сожалению, не представляется возможным. При этом совершенно точно, что богословие у них было, так как явно наличествовали храмы и монастыри. Весьма вероятно, что радикальный диофизитский «теологумен» Нестория о «Христородице» был уже забыт, так что по своему вероучению Ми Цзифэн8 и его сын—монах, Аулабянь Тецзямусы, «чёрные кидани» из рода Елюй, равно как и христиане-тюрки (Ню Жуцзи 2000: 62—67) были достаточно близки к халкидонскому символу веры.
Список литературы Несторианское христианство в танском Китае (по материалам эпитафии Ми Цзифэня)
- Залесская B.H. 1998. Христиане на Востоке: Мелькиты. Монофиситы. Несториане. Каталог выставки. В: Пиотровский М.Б. (ред.). Христиане на Востоке: Искусство мелькитов и инославных христиан. Санкт-Петербург: Славия, 18—21.
- Кычанов Е.И. 1978. Сирийское несторианство в Китае и Центральной Азии. Палестинский сборник. Филология и история 26 (89), 76—85.
- Никитин А.Б. 1984. Христианство в Центральной Азии (древность и средневековье). В: Литвинский А.Б. (ред.) Восточный Туркестан и Средняя Азия: История. Культура. Связи. Москва: ГРВЛ, 121—137.
- Сальников С.К. 2002. Истории распространения несторианства в Китае. Вестник Челябинского государственного университета 1, 110—117.
- Ashurov B. 2013. Tarsakya: an analysis of Sogdian Christianity based on archaeological, numismatic, epigraphic and textual sources: PhD Thesis. London: SOAS University of London.
- Christopoulos L. 2012. Hellenes and Romans in Ancient China. Sino-Platonic Papers 230, 1—79.
- Hirth F. 1913. The Mystery of Fu-lin. Journal of the American Oriental Society 33, 193—208.
- Hoppal K. 2011. The Roman Empire according to the ancient Chinese sources. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 51, 279—299.
- Jones R.A. 2009. Centaurs on the Silk Road: Recent Discoveries of Hellenistic Textiles in Western China. The Silk Road 6/2, 23—32.
- Li Qiang. 2005. Roman coins discovered in China and their research. Eirene. Studia Graeca et Latina 51, 279—299.
- Вэй Цзянь, Чжан Сяовэй. 2013. Археологические исследования наследия онгутов и следов несторианства в горах Иньшань. Бяньцзян каогу яньцзю 4, 193—212.
- Го Юньянь. 2006. ФШИсследование обнаруженных в Китае византийских монет и их имитаций. Тяньцзинь: Отдел аспирантуры университета Нанькай.
- Го Юньянь. 2016. ^Ш^НЕШ^^МШШЖ^ЖЙШШШШ^ Обсуждение золотых монет из тюркских погребений в Баян-Норе (Монголия). Цаоюань вэньу 1, 115—123.
- Гэ Чэнъюн. 2001. Несторианские верования согдийской семьи в Чанане в период династии Тан. Лиши яньцзю 3, 181—186.
- Гэ Чэнъюн. 2015. Культурные связи Европы и Азии по данным памятников наследия от Хань до Тан. Гугун боуюанькань 3, 111—125.
- Гэ Чэнъюн. 2018. : ^ВвМ^ФЙФШ «Хмельной средиземноморец»: греческий бог Бахус в Китае. Цаоюань вэньу 1, 58—69.
- Ло Фэн. 1993. имитаций восточно-римских золотых монет, произведенных в Сиане. ФШШ^ Чжунго цяньби 4, 17—19.
- Ню Жуцзи. 2000. тюркских несторианских надписей в Китае. Миньцзу юйвэнь 4, 62—67.
- Чжан Сюйшань. 2006. Распространение несторианства на восток и греко-византийское культурное влияние в Китае. Шицзе лиши 6, 76—88.
- У Чансин. 2015. ^^м^^Й^^Рецензия на исследование Цзинцзяо в эпоху Великой династии Цинь. Journal for the Study of Christian Culture 34, 187—215.
- Ян Гунлэ. 2009. некоторых исторических фактов о несторианской стеле в Китае. Шисюеши янджу 2, 120—121.