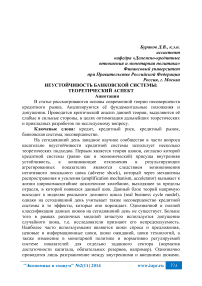Неустойчивость банковской системы: теоретический аспект
Автор: Бураков Д.В.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 2-1 (11), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основы современной теории несовершенств кредитного рынка. Анализируются её фундаментальные положения и допущения. Проводится критический анализ данной теории, выделяются её слабые и сильные стороны, в целях оптимизация дальнейших теоретических и прикладных разработок по исследуемому вопросу
Кредит, кредитный риск, кредитный рынок, банковская система, несовершенство
Короткий адрес: https://sciup.org/140107339
IDR: 140107339
Текст научной статьи Неустойчивость банковской системы: теоретический аспект
На сегодняшний день западное научное сообщество в части вопроса касательно неустойчивости кредитной системы использует несколько теоретических подходов. Первым является теория шоков, согласно которой кредитной системы (равно как и экономической) присуща внутренняя устойчивость, а возникающие отклонения в результирующих агрегированных показателях являются следствием возникновения негативного локального шока (adverse shock), который через механизмы распространения и усиления (amplification mechanism, accelerator) вызывает к жизни широкомасштабное циклическое колебание, выходящее за пределы отрасли, в которой появился данный шок. Данный блок теорий напрямую восходит к моделям реального делового цикла (real business cycle model), однако на сегодняшний день учитывает также несовершенство кредитной системы и те эффекты, которые оно порождает. Однозначной и полной классификации данных шоков на сегодняшний день не существует. Больше того в рамках различных моделей зачастую используется допущение случайного шока, т.е. исследователи признают его непредсказуемость. Наиболее часто используемыми являются шоки спроса и предложения, ценовые и информационные шоки, шоки ожиданий, шоки технологий, а также изменение в монетарной политике и нормативно регулируемой системе показателей для отдельно заданного сектора (норматив достаточности капитала, обязательных резервов, например). Однозначно проводится лишь разграничение между внутренними и внешними шоками.
Внешние шоки не являются в представлениях исследователей внутренне присущими следствиями функционирования рыночной системы хозяйствования (шоки технологий, изменение в потребительских предпочтениях). Внутренние же шоки, наоборот, присущи системе экономических отношений и являются прямым следствием процесса взаимодействия между различными агентами. Под шоком подразумевается резкое и неожидаемое изменение в результирующей функции тех или иных субъектов рынка (домохозяйств, производителей, заемщиков, кредиторов, портфельных и спекулятивных инвесторов, регулятора).
Касательно системы кредитных отношений однозначного взгляда, в рамках создаваемых моделей не существует. Основная система представлений, разделяемая и отчасти созданная представителями Федеральной Резервной Системы США, как отмечалось выше, учитывает присущее кредитной системе несовершенство в части неоптимального перераспределительного\распределительного механизма кредита, в части механизмов распространения локального шока по всем остальным элементам системы и механизмов усиления локального шока, отрицая потенциал кредита в части возможностей создания локального шока.
Вторая группа взглядов, находящаяся в относительной оппозиции относительного официального, разделяемого органами регулятора, мнения, однако получающая большую поддержку и развитие среди исследовательских кругов, выдвигает тезис согласно которому, с одной стороны кредитной системе присущ вышеописанный потенциал, а с другой она может создавать эндогенные локальные шоки, которые способны влиять на изменение в результирующих показателях общего делового цикла (выпуск, потребление, уровень инвестиций, объем и структура экспорта, занятость и др.). На сегодняшний день выделяется три основных вида эндогенных для кредитной системы локальных шоков с различной природой: шок спроса, шок предложения, шок ресурсной базы.
Таким образом, данная группа взглядов допускает возможность существования внутренне определяемой неустойчивости, присущей кредитным организациям, помимо внешнего воздействия.
Шок ресурсной базы является наиболее известным и раньше других отраженным в теоретических представлениях. В классической терминологии данный шок носит название банковской паники. Данное проявление структурного несовершенства кредитной организации напрямую связано со спецификой кредитных отношений с одной стороны в части невозможности удовлетворения неожидаемого спроса частных и институциональных вкладчиков относительно изъятия размещенных средств, ввиду их использования, как объекта ссужения, с другой стороны, ввиду возможного 39 несовпадения между пассивами и активами по критерию срочности.
-
39 Подробно см. например: Diamond D.W., Dybvig P.H . 1983, «Bank runs, deposit insurance, and liquidity». Journal of Political Economy 91 (3): 401–419.
Вторым признаваемым и подкрепленным эмпирическими данными является шок предложения, под которым подразумевается резкое сокращение предложения кредита банками с одной стороны, и формирование требований досрочного возврата. В состав причин такой смены ожиданий в большинстве случаев включают более психологические факторы, связанные с формированием «тревожности» у кредиторов относительно будущей конъюнктуры.40 Однако стоит отметить, что шок предложения может также являться следствием другого шока: например, потеря ликвидности вследствие банковской паники или схлопывания спекулятивного пузыря может служить причиной данного явления, непредвиденное изменение в нормативе достаточности капитала, изменение в доступности заемных средств через механизм рефинансирования, например. Еще одной причиной может служить достижение верхних пределов (достаточность капитала) возможностей расширения кредита для отдельного взятого банка. Также возможно объяснение через реализацию валютного риска, связанного со спекулятивной атакой. Таким образом, однозначной причины генеза данного шока на сегодняшний день не существует, однако даже такой уровень неоднозначности позволяет, по крайней мере, считаться с возможностью эндогенного его характера.
Третьим структурным шоком, который вызывает большую часть критики со стороны официальной магистральной мысли, является шок спроса. Данную гипотезу можно выразить следующим образом: на повышательной фазе цикла количество качественных кредитных заявок, связанных непосредственно с удовлетворением кредитного спроса на поддержание непрерывности и расширения воспроизводственного процесса, неизбежно сокращается и впоследствии заменяется непродуктивным и низкокачественным мотивом спроса на кредит по тем или иным причинным, специфика которого (в части поведения заемщиков) неизбежно приведет к формированию пузыря и его последующему схлопыванию. Таким образом, «некачественная кредитная экспансия сеет семена последующего разрушительного сжатия и роста убытков». В рамках данного шока спроса или иначе теории «эндогенных кредитных пузырей» акцент ставится на неизбежности кризисного явления, связанного либо с исчерпанием производительных инвестиций и последующим изменением в мотиве спроса на деньги (лорд Кейнс), либо с внутренне определяемой финансовой структурой заемщиков (Х. Мински), либо со спекулятивным мотивом спроса на кредит и циклом цен финановсых и материальных активов (Ч. Киндельбергер, А. Ган, Дж. Жанокоплос, Н. Киётаки, Дж. Мур), либо с существующим разрывом между инновационным циклом и общим деловым циклом (Н. Кондратьев, В. Криворотов, Л. Бадалян, Р. Раджан).
Таким образом, неустойчивость банковской организации и банковской системы в целом определяется рядом несовершенств эндогенного и экзогенного характеров. Прямым следствием данных шоков, действующих отдельно или дополняющих и усиливающих друг друга, неизбежным результатом станет в лучшем случае сокращение темпов прироста ссудного портфеля, ужесточение стандартов кредитования, в худшем – объявление о банкротстве или поглощение другой банковской структурой. Отсюда логичным видится предположить, что смена одной фазы кредитного цикла другой возможна и является следствием формирования шока/шоков определенного характера и природы.
Так или иначе, данная группа взглядов подвергается жесткой критике со стороны финансовых властей США, ввиду «безосновательности, эмпирической и порой «анекдотической» аргументации, а также ввиду 41 отсутствия твердого и однозначного эконометрического подтверждения».
Однако в рамках отражения специфики проявления субъектного несовершенства кредитного рынка, обратимся к обзору основных теорий и гипотез данного блока исследований.
Согласно представлениям лорда Кейнса относительно развития денежно-кредитного сектора, которые в большинстве своем были позаимствованы из работ видного немецкого специалиста Л.А. Гана, американская экономическая и финансовая система, в его представлениях являла собой т.н. «повзрослевшую экономику», в которой возможности для продуктивного, с точки зрения критерия благосостояния и экономического роста, инвестирования исчерпаны. Однако это не останавливает вложение инвесторов в активы, путем также использования кредитных средств. Характер же данных инвестиций все более отчетливо напоминает и приобретает спекулятивный окрас (спекулятивный мотив спроса на деньги), что неизбежно ведет к ухудшению качества удовлетворяемого спроса на кредит, ввиду отсутствия и\или сокращения более качественного, тем самым, приводя впоследствии к убыточности выданных ссуд. Отметим, что автор данной гипотезы однозначно убежден в долгосрочном фиаско спекулятивных стратегий. Данная гипотеза лорда Кейнса является незаслуженно забытой на сегодняшний день, однако степень её актуальности, допуская теоретический и эмпирический характер, остается высокой даже при отсутствии статистического подкрепления.42
Еще одной разновидностью данного рода представлений является теория эндогенных кредитных пузырей Ч. Киндельбергера. В своих исследованиях истории развития финансовой и экономической систем, он однозначно определяет роль эйфории и паник среди инвесторов и кредиторов, которые приводят к схлопыванию пузырей, в основе которых лежит удовлетворенный спекулятивный спрос на кредит. Интересны в данном случае не столько его выводы, сколько система аргументации. Если лорд Кейнс рассматривает неизбежность в рамках повзрослевшей экономики, удовлетворение спекулятивного спроса, ввиду сокращения других типов, то Ч. Киндельбергер акцентирует внимание на стремлении кредиторов также как и спекулянтов «прокатиться на этой волне». Стремление к получению быстрого дохода подталкивает кредитные организации к удовлетворению и расширению кредитных потоков относительно данного типа спроса на кредит, а затем по прошествии определенного периода времени, резкого сокращения выделения кредитных средств в рамках данной отрасли.
А. Ган также придерживается данной логики, учитывая с одной стороны влияние ожиданий рыночных агентов, с другой стороны стремление к увеличению дохода в краткосрочной перспективе. В результате в рамках критики «гипотезы ликвидности» лорда Кейнса, А. Ган в противовес трем мотивам спроса на деньги выводит пять мотивов спроса на кредит, в числе которых находятся помимо технических, и спекулятивный мотив спроса. Специфика поведения инвесторов на рынке ценных бумаг и недвижимости неизбежно включает в себя, в его понимании, стадию подъема, эйфории, последующего краха (паники) и депрессии.
Своего рода синтезом отдельных идей лорда Кейнса и Ч. Киндельбергера является теория финансовой хрупкости, появление которой было связано с попыткой противостоянии господствовашему на тот момент в США нейтральному подходу, согласно которому финансовая структура заемщика не влияла на принимаемые решения, а кредит, будучи проявлением финансов и совершенным субститутом договора облигационного займа, являлся частью вуали, не оказывавшей влияния на систему экономических показателей (инвестиций, выпуска, занятости, заработных плат и т.д.).
Стадия посткризисного восстановления экономической динамики, по мнению Х. Мински стимулируется увеличением позитивных настроений субъектов экономических отноешний. Ожидаемый доход, являющийся результатом инвестиций в основные средства, увеличивается, а показатель спроса на ликвидность снижается. Спрос на данный тип активов возрастает большими темпами, нежели предложение, а, следовательно, темпы роста инвестиционных ускоряются. Тем не менее, суммарные риски заемщиков и кредиторов остаются в рамках данной фазы довольно высокими. Именно поэтому большая часть инвестиций осуществляется за счет «обеспеченного финансирования» в определении Х. Мински, т.е. такого типа финансирования, когда чистый приток наличных средств (cash flow) от операционной деятельности за вычетом издержек текущего периода является достаточным для своевременных и в полном размере осуществляемых процентных платежей по ссуженным средствам и частичному погашению основной суммы долга. В представлении автора данной гипотезы, финансовая (а в его понимании и кредитная) система с таким типом финансирования является «прочной» (robust). Отметим, что состояние стабильного роста является оптимальным для развития экономической системы. Спрос и объемы выпуска растут быстрыми темпами, показатели инфляции (в части цен на товары потребительской корзины) прирастают медленно, безработица стремится к естественному уровню, а финансовая система остается в рамках таких допущений стабильной и устойчивой к экзогенным шокам. Стоит отметить, что большая часть неоклассических и новых классических моделей рассматривает такое состояние роста экономики (в независимости от экстенсивного или интенсивного характера), как единственно верно присущее, т.е. выводится допущение, согласно которому экономической и финансовой системам рыночного типа хозяйствования эндогенно не присуща неустойчивость и ритмичность (как в моделях реального бизнес-цикла), а появление циклического характера в движении экономических отношений является следствием возникающих локальных шоков, усиливающихся и распространяющихся за счет ряда каналов. Отчасти революционность взглядов Х.Мински связана с тем, что он однозначно отвергал данную возможность и настаивал на внутренне присущей рыночной системе нестабильности и\или хрупкости.
По мере развития экономики на фазе оживления становится неизбежным переход к фазе экспансии. Рост предпринимательских доходов, включая банковский сектор, становится мощным стимулом для улучшения ожиданий относительно позитивного исхода инвестиционных проектов, что усиливает в свою очередь стимул к осуществлению новых инвестиций.43
Однако покрытие увеличившегося спроса за счет самофинансирования становится невозможным, что так или иначе приводит субъектов хозяйствования к необходимости использования заемных средств. Усиливается готовность рыночных субъектов к «выпуску пассивов с целью приобретения активов». Финансовая и кредитная система реагируют на возросший спрос увеличением предложения, как количества предлагаемых кредитов и займов, так и их качества. В этот период, по мнению Х. Мински, формируется наибольшее количество финансовых инноваций, что, с одной стороны, ведет к изменению «качества денег» - появление менее ликвидных квази-денег (депозитные сертификаты, соглашения об обратном выкупе (РЕПО), ипотечные облигации и т.д.), а с другой стороны к изменениям в скорости их обращения. В случае если органы регулятора ставят целью «охлаждение» экономической системы от инфляционного перегрева (политика А. А. Гринспена в начале нулевых годов в США, например), то степень изощренности изобретаемых инноваций финансовыми посредниками лишь увеличивается. Изменение в норме резервирования также создает негативный стимул к созданию новых видов «денег», еще не регулируемых государством. Итогом данных процессов становится формирование неконтролируемой финансовой системы (например, теневой банковский сектор), в первую очередь характеризующейся увеличенным уровнем информационной непрозрачности, и как следствие, снижением качества её работы и устойчивости к негативным шокам эндогенного и экзогенного характеров. По мнению Х. Мински «в американской банковской системе банки могут увеличить отношение банковских пассивов к банковским резервам, замещая вклады до востребования на срочные вклады, фактические ссуды на обещания их выдачи (кредитные линии) и изменяя эффективность использования резервов через межбанковские сделки с ними, то есть через сделки с федеральными фондами. Таким образом, фактическое количество денег в обращении определяется эндогенно».44 В современных развитых экономиках рыночного типа хозяйствования создание денежных средств напрямую связано с финансированием процессов производства и приобретением капитальных активов. В противовес М. Фридману, который недооценивал роль банков в создании денежных средств за счет кредитного мультипликатора и эффекта «превращения активов в денежные средства»45 (дословно equity extraction переводится как «выкачивание активов»), определяя денежную массу как «просто экзогенную переменную, определяемую… органами, ответственными за проведение денежнокредитной политики»,46 Х. Мински же считал, что возможности кредиторов не только существенны, но и оказывают решающую роль на стабильность функционирования экономический системы в условиях эндогенных денег. Внешние деньги «связаны» лишь с деятельностью золотодобывающей промышленностью или органов, ответственных за управление денежным обращением. Именно поэтому доминирующий характер в экономике внутренних денег над внешними настолько важен для ее роста и производительности. Именно создание и использование внутренних денег позволяет увеличить количество материальных активов в экономике и, тем самым, расширить её производственные возможности.
В результате, уменьшение рисковой нагрузки (в части отношения и восприятия) заемщиков и кредиторов и финансовые инновации (в значительной мере порождаемые этим уменьшением), изменяют тип финансирования, который используется субъектами хозяйствования при осуществлении инвестиционной деятельности. Переход фирм на чрезмерное «внешнее финансирование» имеет следующие результаты:
-
• спекулятивное «финансирование» , при котором текущие входящие потоки наличности достаточны только для уплаты процентов, но недостаточны для погашения тела кредита, следствием чего становится «ролловерный кредит»;
-
• Понци-финансирование , при котором текущих входящих потоков наличности недостаточно даже для выплату процентов за кредит, и субъекты хозяйствования вынуждены увеличивать задолженность. Понци-финансирование представляет собой не что иное, как «финансовую пирамиду».
С преобладанием в экономике этих двух типов финансирования (и особенно последнего) финансовая система становится, по Х. Ф. Мински, «хрупкой»; нестабильность в экономике увеличивается, и в ней все сильнее раскачивается «маятник деловой активности».
Следует отметить, что Понци-финансирование (в развитых странах) порождается вовсе не оппортунистическим поведением участников рынка, а общей финансово-экономической обстановкой и, прежде всего, ростом процентных ставок. Их увеличение приводит к росту текущих финансовых обязательств организаций при системе плавающих (гибких) ставок процента и/или при использовании ролловерного кредита (т.е. при спекулятивном финансировании). В последнем случае рост процентных ставок неизбежно трансформирует спекулятивное финансирование в Понци-финансирование. Но Понци финансирование недолговечно: рано или поздно фирмы, использующие этот тип финансирования, не смогут увеличить свою задолженность для выплаты обязательств, по меньшей мере, из-за возрастающего риска заемщика, а также ввиду общей нехватки ликвидности в экономике. Вот почему «чем больше вес спекулятивного и Понци финансирования,... тем больше хрупкость финансовой системы».47
В такой ситуации избежать немедленного банкротства можно лишь путем реализации собственных активов той или иной степени ликвидности.
Однако такая реализация, происходящая во всей экономике, приводит к резкому падению цен на материальные и финансовые активы и в конце концов раскручивает цепочку банкротств (по аналогии со спиралью левереджа Дж. Жанокоплоса). Совокупный спрос падает, происходит инвестиционный коллапс, и экономика из фазы бума попадает в фазу спада. Углубить этот спад могут взаимно усиливающие друг друга падение цен и утяжеление реального долгового бремени (эффект «долговой дефляции» или эффект Фишера).
Понятие «финансовая хрупкость» является чрезвычайно важным в теории Х. Мински. При этом, хрупкость в минскианском смысле этого слова имеет две составляющих. Первая состоит в том, что экономика утрачивает способность к поглощению шоков, в результате чего эти шоки с большей вероятностью могут вызвать финансовый кризис и зарождающуюся долговую дефляцию. Но, вдобавок к этому, риски заемщиков и кредиторов также растут, а это сдерживает объем инвестиционной активности, финансируемой за счет долгов.
На основе этих определений становится понятным, почему спекулятивное и Понци-финансирование порождает финансовую хрупкость. Понятно также, почему финансовая хрупкость является едва ли не основной причиной циклического спада. Однако главный вывод, который можно вывести, состоит в следующем: повышение степени финансовой хрупкости экономики представляет собой неотъемлемый элемент повышательной фазы делового цикла и процесса экономического роста. Рост (как и деловой цикл) во «внутренне-денежной» экономике невозможен без финансовой хрупкости. Но поскольку такая нестабильность создает предпосылки для смены конъюнктурного подъема кризисом, рост имеет циклическую природу и не может протекать равномерно и сбалансировано.
Таким образом, в рамках модели финансовой неустойчивости, подразумевается что 1) капиталистическая экономика, в которой процесс создания денег неразрывно и в большинстве случаев связан с банковским сектором (банковская мультипликация, порождающая показатель M2), 2) неизбежно обречена на цикличность в стиле «бум – крах», ввиду 3) наличия границ экономической и финансовой системы, способных поглощать инвестиционные вложения (показатели спроса внутреннего, внешнего, промежуточного), 4) формирования негативного экзогенного шока (резкий рост ставок рефинансирования, изменение требований к достаточности капитала), 5) формирования негативного эндогенного шока (изменение в ожиданиях игроков рынка ценных бумаг, осознание рисковой нагрузки банковскими агентами).
Как уже отмечалось, модель Х. Ф. Мински создана применительно к экономике, в которой создание денег связано с созданием капитальных активов, т.е. с реальным инвестированием, но, при этом, эти деньги являются долгами по определению.
Таким образом, физические инвестиции в таком хозяйстве неизбежно связаны с выпуском долговых обязательств, т.е. с созданием внутренних денег. Как уже отмечалось, наличие внутренних денег усиливает степень цикличности хозяйства, поскольку делает более жесткой связь между циклическими подъемами и спадами. Фаза подъема обеспечивается накоплением долгов; фаза спада порождается неспособностью должников выполнить свои долговые обязательства перед кредиторами (банками и другими финансовыми институтами).