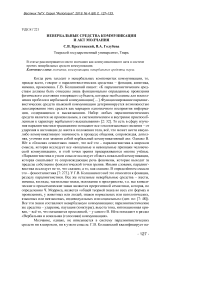Невербальные средства коммуникации и акт молчания
Автор: Крестинский Станислав Владимирович, Голубева Вера Александровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования текста и дискурса
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается место молчания как коммуникативного акта в системе прочих невербальных средств коммуникации.
Молчание, коммуникация, невербальные средства, пауза
Короткий адрес: https://sciup.org/146281515
IDR: 146281515 | УДК: 81`221
Текст научной статьи Невербальные средства коммуникации и акт молчания
Когда речь заходит о невербальных компонентах коммуникации, то, прежде всего, говорят о паралингвистических средствах - фонация, кинетика, мимика, проксемика. Г.В. Колшанский пишет: «К паралингвистическим средствам должны быть отнесены лишь функционально оправданные проявления физического состояния говорящего субъекта, которые необходимы для восполнения пробелов в вербальной коммуникации […]. Функционирование паралингвистических средств языковой коммуникации детерминируется возможностью декодирования этих средств как маркеров однозначного восприятия информации, содержащихся в высказывании. Набор любых паралингвистических средств является не произвольным, а систематическим и внутренне приспособленным к характеру вербального высказывания» [2: 32]. То есть в сферу изучения паралингвистики традиционно попадают все «околоязыковые» явления - от ударения и интонации до жеста и положения тела, всё, что может нести какую-либо коммуникативную значимость в процессе общения, сопровождая, дополняя, уточняя или заменяя собой вербальный коммуникативный акт. Однако В. Нёт в «Основах семиотики» пишет, что всё это - паралингвистика в широком смысле, которая исследует все «вокальные и невокальные признаки человеческой коммуникации», и этой точки зрения придерживаются многие учёные. «Паралингвистика в узком смысле исследует область вокальной коммуникации, которая охватывает те сопровождающие речь феномены, которые выходят за пределы собственно фонологической точки зрения. Иными словами, паралингвистика исследует не то, что сказано, а то, как сказано. В определённом смысле это - фоностилистика [7: 273]. У Г.В. Колшанского всё это относится к фонации, разделу паралингвистики. Все же остальные невербальные средства - жесты, мимика, взгляды, тактильные знаки, положение в пространстве, т.е. все кинеси-ческие и проксемические знаки являются прерогативой семиотики, которая, по определению Ч. Морриса, является «общей теорией знака во всех его формах и проявлениях, у животных или людей, знаков нормальных или патологических, языковых или неязыковых, индивидуальных или социальных» (цит. по: [7: 48]). Все эти знаки составляют невербальную коммуникацию; паралингвистические же средства - ударение, паузация (юнктуры), высота тона, интонационная кривая, - всё то, что называется просодикой, - у самого В. Нёта попадают в раздел «Вербальная и вокальная (голосовая) коммуникация».
Молчание, однако, не вписывается в систему паралингвистических средств ни в широком, ни в узком смысле. Г.В. Колшанский квалифицирует па- ралингвистические средства как маркеры однозначного восприятия информации; кроме того, «набор любых паралингвистических средств является не произвольным, а системным и внутренне приспособленным к характеру вербального высказывания». То есть речь идёт о системности и однозначности паралингвистических средств (нужно добавить - в одной национальной среде, ибо одни и те же знаки у разных народов, как известно, могут иметь разные значения); их однозначное декодирование возможно и вне языка, вне речи. «Это факторы, не относящиеся непосредственно к системе языка, но участвующие в коммуникации, и поэтому они относятся к внешним по отношению к языку факторам - экстрафакторам» [3: 18]. Кроме того, практически любое высказывание, описывающее конкретную ситуацию, конкретные события, может быть заменено невербальными средствами. Об этом свидетельствуют почти неограниченные возможности пантомимы, опыты постановок классических пьес в театре «Мимики и жеста» О богатейших выразительных возможностях жеста, которому подвластно всё, говорила великая балерина современности М. М. Плисецкая.
Что касается молчания, то между ним и паралингвистическим знаком есть принципиальное различие: паралингвистический знак (в понимании Колшанского) автономен от языка, молчание же такой автономностью не обладает, его значимость проявляется только в языковом окружении, оно зависит полностью от языковых знаков. Поэтому молчание нельзя отнести к внешним факторам. Если паралингвистический знак (кинема или проксема) может восприниматься и однозначно интерпретироваться в границах одного социума, минуя вербальный уровень, и независимо от него, то молчание приобретает свою значимость лишь в вербальном контексте. Если паралингвистические знаки сопровождают речевые ходы коммуникантов и благодаря этому делают речь более эмоциональной и выразительной, т.е. они являются вспомогательными средствами и без них можно в принципе обойтись, то молчание контрастирует речи и благодаря этому становится выразительным. Как утверждает Т. Брюно, на фоне языка молчание может быть даже более значимым, нежели речь [6: 18]. Действительно, если вспомнить, например, финальную сцену из «Ревизора» Н. В. Гоголя, то более значимым в этой сцене оказывается всеобщее молчание всех присутствующих в этом эпизоде персонажей, нежели предшествующее ей сообщение о приезде настоящего ревизора.
А. И. Галичев в своей диссертации, посвящённой кинесическим и прок-семическим компонентам речевого общения, также понимает кинесику и прок-семику как соответствующие разделы паралингвистики. Характеризуя свойства этих знаков, он говорит о семантических, синтаксических и прагматических измерениях кинем и проксем.
Семантические признаки паралингвистических знаков - дейктические, описательные, символические, усилительные и инвективные - не могут, за исключением, пожалуй, символического признака (ритуальное молчание), характеризовать молчание: оно не может указывать на что-либо, с его помощью невозможно описать, например, «геометрические фигуры», размер, формы поверхности и т.п.» [1: 18]; молчание не может усиливать какой-либо признак предмета (например, высшее качество или умственные способности, что может показать жест); наконец, молчание не имеет инвективных возможностей, можно молча выразить недовольство или гнев, но не более.
«В плане синтаксического функционирования кинесические знаки могут: относиться к лексически неполноценному речевому элементу, следовать параллельно с речевыми высказываниями, предвосхищать вербальные сообщения, сопровождать более крупные части интеракции, подчёркивать часть речевого сообщения, заполнять периоды молчания, сохранять контакт между партнёрами по коммуникации, с опозданием дублировать содержание вербального высказывания, заменять отдельные слова и фразы, функционировать автономно» [цит. раб.: 21].
Как видно, ни одна из перечисленных функций, за исключением способности заменять отдельные слова и фразы, не может быть приписана акту молчания.
Синтаксическая функция молчания сводится, прежде всего, к разграничению каких-либо смысловых единиц - синтагм, предложений и т. П.М. Савиль-Труак, правда, говоря о грамматическом значении молчания, отмечает его способность заменять различные элементы предложения, например, в вопросе учителя «Это - ....?», где подразумевается вопрос «Что это?», или в ситуации, когда говорящий спрашивает кого-либо о его имени в форме «Вас зовут ...? [8: 7]. Сюда же можно отнести и немецкое выражение «Sie wünschen …?» Структурно эта фраза является распространённым повествовательным предложением с прямым порядком слов, но в котором прямое дополнение заменено паузой, которая подразумевает ожидание вопроса, просьбы, предложения или сообщения. В сочетании с интонацией незавершённости вся структура получает значение вопроса. Эти случаи можно рассматривать также и как эллипсис, пропуск какого-либо элемента предложения, интонационно оформленного паузой (в данных случаях - именной части сказуемого и прямого дополнения) с тем, чтобы получатель восполнил этот пропуск, чтобы, например, проверить знания или узнать что-либо (имя, желание и т.д.), как в приведённых примерах.
Функция заполнения паралингвистическим знаком периодов молчания помогает раскрыть семантику молчания, сделать его однозначным. Трудно сказать, что здесь первично - жест или молчание. Можно допустить, всё же, что молчание, тогда кинемы играют сопроводительную роль по отношению к молчанию, и соотношение кинемо-проксемических средств коммуникации оказывается аналогичным их соотношению с языком. В этом также просматривается тесная взаимосвязь языка и молчания. Собственно, молчание - это внешняя форма внутренней речи: отказываясь по какой-либо причине от звуковой речи, человек не перестаёт мыслить. Этот отказ может быть намеренным или ненамеренным, вызван различными факторами психологического или социального характера, условиями и нормами соответствующего окружения и т. д. и тогда речь уже пойдёт о причинах, заставивших человека замолчать, и о том, как должно интерпретировать его молчание, что оно должно значить, т.е. исходя из вербального и невербального контекста реконструировать схематично, в виде имплика-туры или пропозиции, содержание его мыслей и его намерений.
Возвращаясь к вопросу о месте молчания в системе невербальных компонентов коммуникации, я считаю, что как бы ни понималась область исследо- ваний паралингвистики - узко или широко, - молчание не вписывается в её парадигму ни в том, ни в другом смысле: собственно паралингвистика, как это трактуется у В. Нёта, слишком узка для такого огромного понятия, как молчание, хотя пауза как фрагмент интонации и может в ней рассматриваться; паралингвистика в широком смысле, как у Г.В. Колшанского и А.И. Галичева, также не может взять молчание под своё крыло: природа кинемо-проксемических знаков значительно отличается от природы молчания, о чем говорят семантические и синтаксические характеристики этих знаков в работе А.И. Галичева.
Таким образом, молчание, на мой взгляд, попадает в более широкую и ёмкую систем средств невербальной коммуникации, что позволяет рассматривать молчание и с семиотической точки зрения, поскольку все они являются объектом изучения семиотики.
Развёрнутое определение невербальных средств коммуникации даёт А. Штойбле: «Невербальные средства коммуникации - это все неязыковые явления и способы поведения в интерактивном контексте […] невербальные средства охватывает все явления, действия и формы выражения, которые не являются частью языка (в смысле актуально использованных слов, языковых выражений), т.е. все звуковые и речевые явления, паузы, неречевые звуковые выражения и, наконец, все физические, мимические, жестовые формы выражения […]. Понятие невербальной коммуникации охватывает незвуковые невербальные и звуковые невербальные явления [9: 14-15]. Последние автор определяет как паравер-бальные, противопоставляя их невербальным, видимым, но не слышимым коммуникативным средствам. К паравербальным она, наряду с интонацией, ударением, громкостью звука относит и паузы, как заполненные, так и не заполненные [цит. раб.: 21]. Паузами автор называет короткие и более продолжительные остановки в речи, которые не имеют коммуникативной нагрузки; эти паузы неинформативны, они определяют общий характер речи и её ритм. Расчленяя речевой поток на смысловые отрезки, отмечая в нем точки, запятые, тире, многоточие, они выполняют синтаксическую функцию.
Молчание же в отличие от паузы - это качественно иная невербальная коммуникативная единица, это слышимая форма невербального поведения. Слышимая - потому, что как паузу, так любой акт молчания мы слышим, т.е. мы слышим отсутствие речи, и её отсутствие может оказывать на слушателя определённое воздействие, оно обращает на себя внимание, мы его воспринимаем сначала органами слуха, а затем оно воздействует каким-либо образом на наш мозг, заставляя решать, что это молчание означает, или на наши чувства, вызывая определённые эмоции.
В сязи с этим, предложенную автором структуру невербального поведения следует дополнить молчанием, которое попадает в группу паравербальных, т.е. слышимых, но не видимых средств коммуникации. Сама автор представляет эту структуру невербального поведения в виде перечня основных понятий для анализа невербального поведения [там же]. Однако, в принципе, это не что иное, как структурные элементы невербальной коммуникации, имеющие также и оп-позитивные отношения.
Представим данную структуру в виде ряда оппозиций (рис. 1) :
Невербальное поведение
Невербальные средства (видимые, неслышимые)
Паравербальные средства (невидимые, слышимые)
проксема кинема
взгляд
интонац динам

акценты
темпоральные акценты

молчание
Рис. 1
(Темпоральные акценты включают: темп речи, очень короткие паузы в 0,5-1 сек., незаполненные и заполненные более продолжительные паузы; динамические акценты – ударение и громкость звука).
Как видно из схемы, сюда попадают все основные компоненты невербальной коммуникации. В этом видится преимущество такой интегрированной схемы, поскольку она даёт целостную картину невербальной коммуникации.
Следует заметить, однако, что часто происходит смешение понятий пауза и акт молчания, их рассматривают как синонимические понятия, что, на мой взгляд, неверно. Например, в целом в очень интересной статье О.М. Любимской «Пауза как средство невербальной коммуникации в творчестве Дж. Д. Сэлинджера» автор пишет: «Особое внимание лирический герой Сэлинджера уделяет молчанию в виде паузы…» [5: 120]. Да, автор, в данном случае Дж. Д. Сэлинджер, называет прерывание речи героев паузой, но не стоит, наверно, путать художественное произведение, в котором автор волен называть что и как угодно, в зависимости от своих целеполаганий и языковых привычек, и научное исследование, в котором следует придерживаться определённой терминологии и разводить понятия. А пауза и молчание, как доказано во множестве исследований на данную тему, – не одно и то же. О том, что молчание и пауза не одно и то же, пишет М. Л. Ковшова в работе «Пауза, молчание и тишина в пьесах М. Булгакова»: «Молчание – переживаемое понятие в русской культуре, и потому “словам молчания”, включая паузу , свойственно глубокое прочтение, их семантика при восприятии зачастую дополняется культурными коннотациями. Молчание и пауза – знаки, используемые в театральной коммуникации во всем многообразии их значимости; в русском драматическом тексте ремарка молчание уступила место ремарке пауза , которая стала означать и короткий перерыв, и выражать более сложное содержание. Ремарка пауза у Булгакова проще, чем ремарка молчание . Ремарка молчание во всех его пьесах – романно-драматургическое слово, объединяющее обе ипостаси писателя и драматурга Михаила Булгакова, которым идея молчания переживалась особенно глубоко. Ремарка молчание требует от актёра особенного, проникновенного действия, а читатель воспринимает ремарку как слово молчание со всеми его культурными смыслами. Ремарка тишина , введённая М. Булгаковым, с присущими этому слову космогоническими и мистическими коннотациями, ещё более усиливает концептуальную связь ме-татекстового элемента – ремарки – и основного драматического текста» [2: 291].
В этой связи позволю себе повторить оппозиционный ряд понятий, обозначающих отсутствие или прерывание речи и звука в самом широком смысле, предложенный мной ещё в моём диссертационном исследовании «Коммуникативно значимое молчание в структуре языкового общения» (рис. 2) :
ОТСУТСТВИЕ ЗВУКА
ТИШИНА
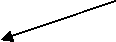
МОЛЧАНИЕ

Отсутствие звука вне коммуникации: доречевое, внеречевое, внекоммуникативное молчание
НКМ
КМ
СОЭ КА
Пауза АМ
Рис. 2
(НКМ – некоммуникативное молчание; КМ - коммуникативное молчание; СОЭ – молчание как структурообрающий элемент, КА молчание как коммуникативный акт, АМ - акт молчания).
Согласно данной схеме, коммуникативно значимое молчание включает:
-
- молчание как условие и фон для совершения некоторых действий
(СОЭ), его коммуникативная значимость обусловливается обязательностью этого условия, невыполнение которого ведёт к нарушению действия вплоть до его отмены;
-
- молчание как коммуникативный акт и невербальный компонент
процесса общения, дискурса и диалога.
Пауза же, будучи неотъемлемым элементом речевого коммуникативного акта, не равна АМ, поскольку последний выступает заместителем соответствующего речевого хода, когда не реализуется какой-либо речевой акт, а пауза не заменяет и не отменяет речевой акт, а только задерживает его начало или разбивает его на фрагменты или смысловые единицы, т.е. выполняет синтаксическую функцию.
Об авторах:
Список литературы Невербальные средства коммуникации и акт молчания
- Галичев А.И. Кинесический и проксемический компоненты рече вого общения: Автореф. дисс.... канд. филол. наук. 1987. 22 с.
- Ковшова. М.Л. "Пауза, молчание и тишина в пьесах М. Булгакова": Логический анализ языка. Адресация дискурса. Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. Изд. "Индрик". Москва 2012. С.276-293.
- Колшанский Г.В. Паралингвистика. М.: Наука, 1974. 80 с.
- Крестинский С.В. Коммуникативно значимое и коммуникативно незначимое молчание. / Языковой дискурс в социальной практике. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный университет"; Ответственный редактор: Н.А. Комина. 2012. С. 113-118.
- Любимская О.М. "Пауза как средство невербальной коммуникации в творчестве Дж. Д. Сэлинджера". Филологический класс. 2017. № 3 (49). С. 119-123.
- Bruneau T.J. Communicative silences: Forms and functions//The Journal of Communication. H 23. 1973. P. 17-46.
- Noth W. Handbuch der Semiotik. J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung: Stuttgart. 1985. 560 S.
- Saville-Troike M. The Place of Silence in the Theory of Conmunication// Perspectives of Silence. - Ed. by D. Tannen, G.U., M. Saville-Troike. Univ. of Illinois. 1985. P. 1-18.
- Steuble A. Integrative Konversationsanalyse: Zum Zusammenhang von Sprache, nonverbaler Kommunikation und interaktive Beziehung. Pfeifenweiler: Centaurus-Verlagsgesellschaft, 1986. 438 S.