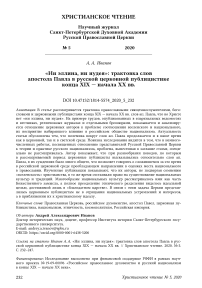"Ни эллина, ни иудея": трактовка слов апостола Павла в русской церковной публицистике конца XIX - начала XX вв
Автор: Иванов Андрей Александрович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 5 (94), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается трактовка православными священнослужителями, богословами и церковными публицистами конца XIX - начала XX вв. слов ап. Павла, что во Христе нет «ни эллина, ни иудея». На примере трудов, опубликованных в епархиальных ведомостях и вестниках, религиозных журналах и отдельными брошюрами, показывается и анализируется отношение церковных авторов к проблеме соотношения вселенского и национального, их восприятие набиравшего влияние в российском обществе национализма. Актуальность статьи обусловлена тем, что полемика вокруг слов ап. Павла продолжается и в наше время как в церковной, так и в светской среде. Новизна исследования видится в том, что в немногочисленных работах, посвященных отношению представителей Русской Православной Церкви к теории и практике русского национализма, проблема, вынесенная в заглавие статьи, специально не рассматривалась. Автор показывает, что при разнообразии поводов, по которым в рассматриваемый период церковные публицисты высказывались относительно слов ап. Павла, в их суждениях было много общего, что позволяет говорить о сложившемся за это время в российской церковной среде преобладающем направлении в оценках места национального в православии. Изученные публикации показывают, что их авторы, не подвергая сомнению «вселенскость» христианства, в то же время отстаивали право на существование национальных культур и традиций. Многообразие национальных культур рассматривалось ими как часть Божественного замысла, а полное преодоление этнического разделения виделось идеальной целью, достижимой лишь в «благодатном царстве». В связи с этим задача Церкви представлялась церковным публицистам не в отрицании национальных устремлений и интересов, а в приближении их к христианскому идеалу.
Православная церковь, российское духовенство, апостол павел, церковная публицистика, национализм, этничность, космополитизм, российская империя
Короткий адрес: https://sciup.org/140250813
IDR: 140250813 | DOI: 10.47132/1814-5574_2020_5_232
Текст научной статьи "Ни эллина, ни иудея": трактовка слов апостола Павла в русской церковной публицистике конца XIX - начала XX вв
Слова ап. Павла о том, что во Христе нет «ни эллина, ни иудея» довольно часто приводятся в ходе полемики о месте национальности и национального в христианстве как «приговор» любым проявлениям национализма. Опираясь на авторитет апостола, полемисты, отстаивающие космополитический характер христианства в целом и православия в частности, стремятся при помощи этих широко известных слов доказать, что для христиан не должно быть никакой разницы между народами, что национальная обособленность греховна и подлежит преодолению, а то и вовсе отрицают какое-либо значение национальных отличий. Более того, публицисты и даже ученые иногда используют эти апостольские слова как укор Русской Православной Церкви, в официальном названии которой с 1943 г. появилось указание на ее национальную принадлежность — «русская». Например, религиоведы С. Б. Филатов и Р. Н. Лункин, обвиняя священноначалие в «племенном сознании» и критикуя «русскую приватизацию православия», пишут: «РПЦ позиционирует себя как национальную церковь русских, хранительницу национальной русской идентичности — духовности, культуры, государственности. Идеология РПЦ в речах и проповедях ее священнослужителей — от патриарха до авторитетных священников — содержит в первую очередь призыв к возрождению национальных русских традиций» [Филатов, Лункин, 2011, 190]. Такая критика чаще встречается в светской и околоцерковной среде и гораздо реже — в среде церковной. Хотя и среди известных пастырей можно встретить категорическое неприятие любых форм национализма и даже патриотизма. Наиболее ярко такую позицию отстаивал свящ. Даниил Сысоев (1974–2009), утверждавший, что у христиан одно отечество — горний Иерусалим, «у всех один род», а «земные же эти отечества и породы суть только забава нашей временной жизни и лицедейства» [Сысоев, 2009б]. По мнению о. Даниила, «нации — результат гордыни строителей [Вавилонской] Башни», а раз так, то необходимо решительно отделить православную веру от национализма [Сысоев, 2009а, 2011]. Впрочем, такое радикальное неприятие земных реалий (ведь и вавилонское разделение на народы произошло по Божьему Промыслу и не без благого Его попечения о людях), не находит широкой поддержки в Церкви. Выдергивание же апостольских слов из контекста и вовсе приводит к ложному их пониманию.
На это обстоятельство обращает внимание митрополит Константинопольской Православной Церкви Каллист (Уэр), англичанин по происхождению, в своих рассуждениях о кафолическом и этническом, вселенском и национальном [Уэр, 2013, 229–238]. «Да, мы исповедуем: „Верую во единую святую, соборную и апостольскую Церковь“, но вместе с тем каждый из членов единой Церкви наделен неповторимыми национальными дарами, и обесценивать их не стоит, — говорит владыка. — Единство внутри Церкви вовсе не означает единообразия», а потому задача Церкви — удержать вселенское и национальное «в творческом напряжении, не позволить одному понятию вытеснить или поглотить другое» [Уэр, 2013, 229–230]. Напоминая слова ап. Павла, владыка резонно замечает: «В своей соборности Церковь преодолевает половые, сословные, национальные различия. Такое единство — отличительный знак Церкви как Тела Христова, „образа Пресвятой Троицы“; не будь его, не было бы и самой Церкви. Дарованное как возможность всему творению, оно уже сейчас осуществляется в общении верных. А с другой стороны, вселенскость не должна поглотить множественность: признавая единство Церкви, мы обязаны принять и существующее в ней на законных правах национальное многообразие. <…> Если „стереть“ все национальные различия, мы, на самом деле, не очистим, а обедним церковную жизнь. Святой Дух не уничтожает разнообразие, но преображает пестроту в завершенный, многокрасочный узор. Каждая личность — индивидуальная или соборная — наделена неповторимым обликом и ценностью. В каждой Поместной Церкви пребывает Христос, но раскрывается эта полнота во множестве частных, общественных и культурных контекстов» [Уэр, 2013, 230]. Главное, заключает архиерей, чтобы национальные или культурные традиции не затемняли и не искажали вселенскую истину православия. Доказательство же тому, что слова апостола вовсе не означают пренебрежения национальным, митр. Каллист видит в том, что «апостол Павел, утверждавший, что во Христе — „ни иудея, ни эллина“, став христианином, не только не отрекся от своего народа, но продолжал не без гордости называть себя „евреем от евреев“ (Фил 3:5; ср. 2 Кор 11:22)» [Уэр, 2013, 234].
Приведенные выше примеры показывают, что и в наше время полемика вокруг слов ап. Павла не теряет своей актуальности, однако цель данной публикации иная — рассмотреть обращение к этой проблеме в русской церковной публицистике конца XIX — начала XX вв., поскольку именно в этот период, характеризовавшийся распространением влияния национализма и широкого обращения отечественных мыслителей к феномену нации, представители Православной Церкви наиболее активно выступали со страниц периодической печати по интересующему нас вопросу. Кроме того, помимо исторического интереса, обращение к этой теме имеет и практическое значение, ведь именно тогда многое из того, что ныне вновь стало предметом обсуждения и споров, уже было проговорено и достаточно обосновано. И если размышления на эту тему ряда известных религиозных мыслителей (К. Н. Леонтьева, В. С. Соловьева, С. Н. Булгакова, Д. С. Мережковского, А. А. Киреева и др.) неоднократно публиковались (Национализм, 2017), то церковной публицистике по данному вопросу внимания уделено значительно меньше. Что же касается исследовательских работ, рассматривающих отношение православного российского духовенства, богословов и церковных публицистов к теории и практике русского национализма, то на сегодняшней день их также немного [Чемакин, 2019, 350–352], а специально посвященных проблеме, вынесенной в заглавие данной статьи, насколько нам известно, нет вовсе.
Источниковой базой статьи стали материалы церковной публицистики, под которыми понимаются произведения, посвященные актуальным проблемам и явлениям текущей общественно-религиозной жизни, написанные православными священнослужителями, богословами, преподавателями духовных школ, миссионерами, т. е. авторами, непосредственно связанными с церковными структурами. Основное внимание уделено официальной церковной периодической печати, представленной епархиальными изданиями, богословскими журналами, а также брошюрами, написанными церковными авторами. Важно учитывать, что публикации в официальных церковных изданиях рассматриваемого периода отражают в первую очередь позицию консервативно настроенных авторов (реже — представителей консервативно-либеральных взглядов), поскольку, за редкими исключениями, «Епархиальные ведомости» не предоставляли свои страницы церковным диссидентам, не говоря уже о сочувствующих революционным идеям. Но это обстоятельство, на наш взгляд, не делает подбор источников недостаточно репрезентативным и, тем более, случайным, поскольку понятие «церковная публицистика» не тождественно «религиозной публицистике», так как предполагает выражение взглядов, разделяемых (или как минимум допускаемых) епархиальным руководством, духовной цензурой и воспринимаемых обществом именно как голос Церкви, а не как высказывания случайных ее представителей. Данная публикация является частью реализации академического проекта по подготовке антологии, посвященной отношению церковных авторов второй половины XIX — начала XX вв. к теории и практике русского национализма, при работе над которым за весь исследуемый период (1860-е — 1917 гг.) были комплексно изучены материалы более 40 наименований епархиальных журналов, около двух десятков церковно-общественных и светских изданий, а также публицистические произведения, вышедшие отдельными брошюрами. Рассматривая в данной статье частный сюжет, связанный с трактовкой в церковной публицистике слов ап. Павла, что во Христе нет «ни эллина, ни иудея», автор без какой-либо тенденциозности и избирательности выявлял все значимые обращения церковных публицистов к апостольским словам. Представляется, что отбор источников, необходимых для раскрытия темы, заявленной в названии статьи, отражает общую картину, характерную для официальной церковной публицистики рассматриваемого периода. Статья выстроена по хронологическому принципу, что позволяет обратить внимание на влияние исторических событий (болгарского раскола, революции 1905 года, Первой мировой войны) на особенности осмысления апостольских слов, их трактовки, а также свойственные эпохе и церковной среде представления о природе национализма.
2. Обращение к словам апостола Павла
в церковной публицистике конца XIX в.
Как известно, знаменитые слова апостола встречаются в двух местах Нового Завета в Деяниях святых апостолов. В Послании ап. Павла к Галатам эта мысль выражена следующим образом: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал 3:28). А в Послании к Колоссянам ап. Павел говорит: «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол 3:8–11).
Выдающийся русский богослов свт. Феофан Затворник в комментарии на Послание ап. Павла к Колоссянам отмечает по этому поводу, что никакие национальные различия не берутся в расчет у Христа, «в новых порядках, началах и правилах жизни, заводимых верою Христовою, в царстве благодати Его», и «чем бы кто ни был, но принес веру — и принят; прилепился ко Христу Господу — и спасен». То есть, заключает владыка, «мысль у апостола та, что во Христе Иисусе все естественные разности исчезают. Значение и силу имеет только то, что каждый приемлет от Христа Господа и усвояет себе» (Феофан Затворник, 2005, 252–254). Но говоря о «разностях между людьми», апостол тем самым признает их реальное существование и побуждает христиан преодолевать это разделение и стремиться к взаимному единению: «Апостол, показав, как все и всё объединяется во Христе благодатию, говорит как бы: пристало ли вам, так всеобъемлюще и так глубоко объединенным в Христе, допускать в себе движение страстей, производящих среди вас разделение и нарушающих взаимное единение ваше, производимое в вас тем, что в вас все — Христос. Раздирая союз, Христа раздираешь» (Феофан Затворник, 2005, 254). В том же духе толковал это место Священного Писания известный библеист и богослов А. П. Лопухин: «При обновлении себя христианину нужно забыть о своих национальных и общественных преимуществах: один Христос должен стоять у него пред лицом, как высший образец; во Христе должны быть для него сосредоточены все его интересы» (Лопухин, 1913, 319). Однако оба эти комментария, исчерпывающе показывая приоритет вероисповедного начала над национальным, оставляют поле для рассуждения о том, следует ли вовсе отвергать исторически сложившиеся национальные особенности и стремиться к искусственному их упразднению. Ведь речь в словах апостола идет вовсе не о том, что в нашей земной жизни не должно существовать различий между народами или же национальных особенностей (ибо очевидно, что христианство, например, признает различия между мужчиной и женщиной, не выступает за их упразднение, более того, Церковь подтверждает и благословляет их в таинстве брака), а о том, что эти реально существующие особенности не препятствуют принятию Христа и вхождению в Его Церковь. В этом плане показательно, что ставя братство во Христе выше национальных перегородок, свт. Феофан не только не осуждал национальную составляющую земной жизни, но и в некоторых случаях защищал ее. Среди задач, стоящих перед православным государем, он называл и такую: «хранить национальный дух, характер, обычаи, постановления» (Феофан Затворник, 2010, 681).
Следует отметить, что полемика вокруг слов ап. Павла ведется достаточно давно. Попытки дать им толкование в контексте набиравших силу споров о национализме предпринимались уже со второй половины XIX в. Определенной вехой в этой полемике стала «греко-болгарская схизма» 1872 г., начавшаяся с одностороннего провозглашения болгарскими иерархами Константинопольского патриархата автокефального статуса Болгарской Православной Церкви. Одним из последствий этого разделения стало осуждение Синодом Константинопольской патриархии объявленного ересью филетизма (т. е. стремления приносить в жертву национально-политическим интересам интересы общецерковные), а все «приемлющие филетизм» были провозглашены чуждыми Церкви схизматиками [Косик и др., 2002, 633]. Однако Православная Российская Церковь не поддержала столь категоричного суждения Фанара. Архиеп. Димитрий (Ковальницкий), бывший в ту пору профессором-мирянином Киевской духовной академии, в обстоятельном докладе «О значении национального элемента в историческом развитии христианства» так откликался на это событие: «Печальная болгарская распря… слишком ясно вынаружила мечты и стремления греков. Чтобы „оградить, — как они выражаются, — Церковь от варварства“, каким будто грозила замена „царственного языка греческого“ „варварским и неблагозвучным болгарским“, греки на своем соборе заклеймили законные национально-церковные стремления как ересь — филетизм, „вносящий, — говорили они, — доселе неизвестные и неслыханные племенные и народные различия в православную Христову Церковь, в которой, по апостолу, нет ни эллина, ни иудея, ни варвара, ни скифа“. Забыли они только, что если в Церкви нет разницы между эллином-византийцем и скифом-славянином, то они равноправны, а не один раб другому» (Ковальницкий, 1880, 42). Таким образом, в контексте греко-болгарских событий ссылка Константинопольского Синода на слова ап. Павла воспринималась будущим архиереем как неуместная, поскольку, осуждая церковное отмежевание болгар от греков и видя в нем проявление разделяющего единство национализма, архиереи-греки отстаивали право на свое церковное главенство, что отнюдь не следовало из апостольских слов. Напротив, если для Церкви Христовой нет ни эллина, ни иудея, ни скифа, то в желании автокефалии Болгарской Церкви, не стремившейся к разрушению православного единства или видоизменению церковного учения, не было ничего еретического. В притязаниях же Фанара быть «восточным Римом» архиеп. Димитрий видел не меньший «национализм», поскольку «для нынешних византийцев эллинизм и православие тождественны, как для римлян романизм и католичество», и «в глубине души грек считает истинно православным только того, кто входит в интересы великой пан-эллинской идеи» (Ко-вальницкий, 1880, 41–42).
Обращение к различному пониманию слов ап. Павла происходило в конце XIX в. также в связи с тем, что в обществе стали усиливаться космополитические идеи, сторонники которых искали подтверждения своей правоты, в том числе, и в Священном Писании.
Магистр богословия, редактор журналов «Руководство для сельских пастырей» и «Церковно-общественная мысль» прот. Евгений Капралов в статье с говорящим названием «Национальность и христианство», обращаясь к словам ап. Павла, писал так: «По-видимому, по взгляду христианскому, то, что составляет характеристические особенности нации, должно быть — в условиях социального существования — сглажено, уничтожено и даже совершенно исчезнуть в космополитическом всеравенстве и все-правности. В христианстве „несть эллин, ни иудей“: все люди здесь, нации и народы, в своей исторической жизни должны сравняться под одной идеей всеобщего небесного гражданства, создать бессмертного человека и царство не от мира сего. Таким образом, по-видимому, между христианством и национальностью существует не совпадение в основных их стремлениях, а скорее — противоположность» (Капралов, 1892, 270). Но далее о. Евгений опровергает этот расхожий тезис, рассуждая следующим образом: «Но это только по-видимому так, и кажется так лишь при поверхностном взгляде на коренные исторические задачи каждой нации в отдельности и христианства вообще.
На самом же деле и по идее, и по историческому ходу своих взаимных отношений национальность и христианство в существе своем должны представлять явление гармонического согласия и обоюдного взаимодействия. Причем понятно, что подобный характер отношений между национальностью и христианством обусловливается непременно правильным взглядом на задачи национального развития отдельных народов, — взглядом, имеющим свой корень во взгляде на цель развития человечества вообще» (Капралов, 1892, 270). Доказывая правоту своего суждения, пастырь, ссылаясь на другие слова Священного Писания, показывал, что христианство, требуя, с одной стороны, преодоления национального во имя служения идее всечеловечества, вместе с тем указывает и на то, что национальность «в планах Божественного домостроительства имеет свой смысл и значение». В качестве доказательства правоты своих слов о. Евгений приводил следующие строки из Деяний святых апостолов: «[Творец] от одной крови произвел весь род человеческий, для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога » (Деян 17:26-27). Этими словами, заключал он, «утверждается не что иное, как провиденциально-самобытная внутренняя и этнографически и географически внешняя жизнь исторических народов», а значит, «народность и христианство, по идее домостроительства, могут существовать совместно и согласно стремиться к достижению одной цели — богопознания», и «если были случаи несогласия между христианством и национальностью, то они покоились лишь на грубых ошибках» (Капралов, 1892, 271). Главной среди этих ошибок автор статьи считал преобладание национальной идеи над христианской, принесение Христовой веры в жертву т. н. «племенным» или национальным интересам, но никак не признание самобытности народов, если оно не претендует на главенствующее значение в жизни христианского общества. Иными словами, христианство должно воспитывать национальную идею, облагораживать ее и способствовать тому, чтобы каждый самобытный народ, задуманный таковым Божьим Промыслом, по-своему служил общей, вселенской христианской идее, тем самым выполняя свое историческое предназначение. Христианство призвано примирить различные расы, нации и этносы в идее общечеловеческого спасения, гармонически соединить разнообразие народных идеалов, но не уничтожать и не обезличивать исторически сложившиеся народности.
Редактор «Калужских епархиальных ведомостей» прот. Д. Г. Лужецкий, критикуя в проповеди космополитическое понимание апостольских слов, называл его «злонамеренным применением к христианству учения, не только не имеющего ничего общего с ним, но даже прямо противоположного ему». (Лужецкий, 1898, 338). Напоминая, что Царство Божие — « несть от мира сего» (Ин 18:36), священник напоминал, что в разделении человечества на отдельные народы есть особое промыслительное действие Божие. «Кому не известно библейское повествование о столпотворении Вавилонском? Чему же учит нас это событие? Тому, что еще в самом начале размножения рода человеческого разделение на отдельные народы и государства, равно как и обратное приведение всех к единству, входило в промыслительные планы премудрости Божией, и что никакая премудрость, никакие усилия человеческие не могут собрать воедино разрозненные племена и народы. Егда снизшед языки слия, воспевает эту премудрость Божию Церковь, разделяше языки Вышний, егда же огненные языки раздаяше, в соединенение вся призва (Кондак Пятидесятницы). Вот где приведение к единству, — не в человеческом, мирском, а в духовном Царстве Божием. Вот куда призываются все народы, — в лоно св. Церкви Христовой», — указывал пастырь, подчеркивая, что цель существования различных народов, по словам того же ап. Павла (Деян 17:26–27), заключается в том, чтобы каждый из них искал Бога и в событиях своей истории усматривал «водительство всенаправляющей десницы Вседержителя», ощущая «в опытах своей исторической жизни вездеприсутствие Божие», познавал и любил Бога, «своего Помощника и Покровителя» (Лужецкий, 1898, 338–339).
Примерно в том же духе размышлял известный законоучитель, редактор «Тульских епархиальных ведомостей» прот. Александр Иванов. В своей работе «Существенные черты православного нравоучения» пастырь выделил специальный параграф, в котором рассматривал отношение Православной Церкви к патриотизму и любви к своему народу. «Есть учение, — писал он, — которое отвергает законность предпочтительной любви к отечеству. Сторонники этого учения указывают на то, что в христианстве несть еллин, ни иудей (Кол 3:11, Гал 3:28), что по заповеди евангельской ближним своим должно считать всякого человека, к какой бы нации они ни принадлежал (притча о самарянине: Лк 10:29–37). Поэтому предпочтительную любовь к отечеству они считают несогласною с духом христианства. Такое учение известно под именем космополитизма». Но заповедь Христа о любви ко всем людям, даже к врагам, не исключает предпочтительной любви к своему отечеству и своим близким, отмечал о. Александр. «Ни у кого не может быть столько средств и сил, чтобы мог оказывать помощь всем без исключения, — писал священник далее. — По необходимости каждый должен ограничивать свое служение ближним более или менее тесным кругом тех, которые к нему ближе. Странно было бы оставить беспомощным своего родного или в другом каком-либо отношении близкого человека и вместо того помочь в беде совершенно чужому. (Разумеем такой случай, когда есть возможность помочь только одному их двух.) Также странно было бы, если бы кто-нибудь, не имея возможности служить всему человечеству, избрал для своей деятельности на пользу ближним не свое отечество, а чужое». Отмечая, что ап. Павел «как вселенский учитель языков» вполне достоин был бы наименования космополита «в лучшем смысле этого слова», священник напоминал, что и апостол «не был чужд предпочтительной любви к своему (израильскому) народу»: «Он строго осуждает тех, которые предпочитают помогать чужим, а не своим: аще кто о своих, паче же о присных (домашних) не промышляет, веры отверглся есть и неверного горший есть (1 Тим 5, 8). В делах благотворительности он ясно учит предпочитать своих по вере иноверцам: да делает благое ко всем, паче же к присным в вере (Гал 6:10)». Таким образом, заключал о. Александр, апостол в своих знаменитых словах говорит лишь «о равноправности всех народов по отношению к дарам благодати Божией, но не утверждает, что для христианина должно исчезнуть всякое различие народов» (Иванов, 1892, 158–159).
3. Трактовка апостольских слов
в церковной публицистике рубежа веков
На рубеже веков в московском богословско-апологетическом журнале «Вера и Церковь», нацеленном на «светски образованных людей, мало знакомых с богословием» [Сухова, 2004, 701], появилось несколько статей, касающихся национально-церковной проблематики. Как минимум в двух из них содержались рассуждения над словами ап. Павла. Публицист, укрывшийся за инициалами «И. Б.», рассуждая над статьей архимандрита (позже — епископа) Андрея (Ухтомского) «Национальное обособление христианских народов и историческая задача церкви» (Ухтомский, 1899, 194–208), защищал «принцип национализма». Соглашаясь с тем, что национальное обособление народов «все-таки ведет к некоторому нехристианскому разделению людей», поскольку «стремление каждого народа оградить свою политическую самостоятельность сопровождается отчуждением его от других народов, нередко раздором, войною и проч.», автор отказывался признать, что такая обособленность являет собой «возврат к тому исключительному национализму, которым отличались языческие народы» (И. Б., 1899, 781). «Мы ответим на это, — писал публицист, — что принцип национализма, требующий обособления каждого народа, а, следовательно, и уважения прав всякой народности, вовсе не есть принцип языческий. <…> Христианство есть религия свободы. <…> Общий принцип отношений между людьми и народами по христианскому учению выражен в словах ап. Павла, что в Церкви Христовой нет ни эллина, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни варвара, ни скифа и т. п. <…> Слова эти, вопреки толкованию космополитов, видящих в них осуждение национализма, обозначают лишь то, что в Церкви Христовой никто не должен возноситься над другими, что в Церкви нет преимуществ по национальностям, но что каждый народ должен уважать национальные различия, права и самостоятельность всех других народов» (И. Б., 1899, 781–782). Поэтому, заключал автор статьи, нет оснований считать, что национально-политическое обособление народов противоречит христианской любви, так как любовь эта требует, чтобы народы уважали права друг друга, и если бы они всегда следовали этому правилу, то различные народности, живя в мире и согласии, самобытно развивались, обогащая друг друга и тем самым исполняя свое историческое предназначение.
Другой автор — профессор МДА Д. И. Введенский, взявшись за ту же тему, также приходил к выводу, что национальное в христианстве не только не является противоположным наднациональному, но, напротив, служит «полезным последнему „сосудом“, в который, по удачному выражению Ю. Самарина, подчеркнутому [В. С.] Соловьевым, „вливается общечеловеческое содержание“» (Введенский, 1901, 370). «Подобно Спасителю, — полагал Д. И. Введенский, — смотрели на отношение общехристианского духовного царства к национальным особенностям и апостолы. И если ап. Павел возвестил, что во Христе нет ни эллина, ни иудея… то этим он показал только, что географические и этнографические особенности упраздняются, но не сами по себе, а во (ἐν) Христе — в Его духовном царстве, дабы чрез это сделаться всенародным. Итак, вселенскому единению во Христе, — единению внутреннего характера, основанному на единстве веры… нисколько не противоречит национальная самобытность народов. Таков смысл новозаветного учения о единении членов духовного царства» (Введенский, 1901, 370).
К этой же проблеме обращался и профессор Казанской духовной академии В. А. Никольский, который тоже не соглашался с тем, что христианство «прямо и положительно запрещает деление человечества на обособленные народности, отрицает самый принцип народности своим учением о равенстве эллина и иудея». Высказывая мнение, что нации возникают не вследствие желания обособиться от неравных (т. е. не как социальные классы), а напротив — объединяют в себе различные социальные группы, «важные для общих целей этого целого», профессор полагал, что «в национальности, как факте естественной жизни, выражается скорее объединение неравного по природе или по историческим условиям жизни, чем полное разделение». А обособленность народов «вызывается не внутренним разделением, а неодинаковостью географического, этнографического и исторического положения», что в результате приносит и различные духовные плоды, каждый из которых по-своему ценен. Признавая, что народам порой свойственно рассматривать «чужих» как неравных себе, богослов утверждал, что «это народное толкование… не порождается самым фактом национальности, а есть продукт недостаточного психического развития народа». А раз так, то христианству «незачем было разрушать этот естественный факт жизни человечества, а нужно было говорить только о ненормальных толкованиях его». «И, действительно, — заключал Никольский, — оно говорит совсем о другом равенстве, об отсутствии других различий в проповедуемом им Царствии Божием, о равенстве всех людей пред Богом, о равенстве их по вечным, метафизическим свойствам, по их вечной судьбе, для которых национальные различия не имеют никакого значения. Спасение всем открыто: и культурным, и некультурным, рабам и свободным; каждый спасается в своем звании — вот идея христианства» (Никольский, 1904, 50–51).
4. Революционные потрясения 1905 г. и их влияние на церковных авторов
В начале XX в., особенно в ходе революционных событий 1905 г., когда общественно-политическая борьба накалилась до предела, а градус национализма (как русского, так и инородческого) в российском обществе стал стремительно повышаться, дискуссия о совместимости вселенского характера Церкви с национальными интересами населяющих империю народов разгорелась с новой силой. Особенно остро зазвучал «русский вопрос» — консервативные силы, как правило, продолжали отстаивать право православного русского народа быть в империи народом-хозяином, а леволиберальные, в свою очередь, стремились стереть любые национально-конфессиональные ограничения. Естественно, что в этих условиях апостольские слова снова оказались в центре обсуждения.
Преподаватель гомилетики в Смоленской духовной семинарии и цензор «Смоленских епархиальных ведомостей» прот. Стефан Каверзнев в одной из своих проповедей 1905 г. отвечал на упреки в адрес православного духовенства о том, что оно якобы нарушает призыв Христа к братской и всеобщей любви, когда выступает в защиту прав русской народности. «Остановим наше внимание на той заповеди апостола, которую, по-видимому, готовы признавать и те мудрецы века сего, которые отвергают православие и царепочитание, — писал он. — Они тоже принимают заповедь апостола: „братство возлюбите“, громко ратуют за нее и даже упрекают правительство и Церковь за их будто бы узкое и превратное понимание братской любви. Проповедуя идеи социалистические и коммунистические, суетные мудрецы, в обольщении своего гордого ума и коварного сердца, совершенно отрицают любовь национальную, призывают народ русский стать безразличным в делах патриотизма, отрешиться от всех верований, обычаев, преданий, вкусов в идеалов, свойственных нашему русскому гению, советуют спешно вступить на путь космополитизма и по возможности приблизиться к их неведомому идеалу „всечеловечества“» (Каверзнев, 1905, 587–588). По мнению священника, внешние критики Церкви, пытающиеся обосновать свои взгляды на учении Христа, повелевшего любить всякого человека, как самого себя, «забывают, что заповедь Спасителя о любви к ближнему вовсе не требует отказываться от национальных особенностей своего племени; иначе — эта заповедь стала бы в ясное противоречие с волею Господа, создавшего разные племена и языки и расселившего их по лицу земли». «Равным образом, — утверждал о. Стефан, — в известных словах ап. Павла, что в Церкви Божиeй „неcть eллин, ни иудей, раб и свободь, обрезание и необрезание, но всяческая и во всех Христос“, тоже нельзя усмотреть отрицания национальной любви. В данном случае св. апостол говорит, что двери Церкви Христовой одинаково открыты для всех людей и принадлежность к той или другой национальности не служит препятствием войти в них; наоборот же — мысль отказаться от своего рода и племени, или тоже — от своей национальности, противоречит другим словам апостола: „ всяк отвергийся приснаго горше есть невернаго “» (Каверзнев, 1905, 588).
Вопрос о месте национального в Церкви затрагивался и на Областном съезде миссионеров южных епархий, состоявшемся в Одессе в 1905 г. Выступавший на съезде православный миссионер М. А. Кальнев соглашался с коллегами, что Церковь должна быть сверхнациональна, пока дело касается вопросов веры и спасения — «в этом случае в ней не должно быть „ни эллина, ни иудея“». Но в то же время Кальнев добавлял, что «говорить о сверхнациональности Русской Церкви это еще не значит признавать возможность отдавать наш русский православный народ, представляющий огромное в государстве большинство, в жертву другим национальностям и исповеданиям» (Областной съезд, 1906, 58).
Священник Антон Гриневич, ставший в 1920-е гг. архиепископом неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), а в рассматриваемый период придерживавшийся левых политических взглядов (являясь депутатом II Государственной думы, некоторое время входил в трудовую группу) и бывший противником русского политического национализма, также заступался за право мирного сосуществования христианства и национальных особенностей. Защищая желание паствы иметь своим пастырем своего соплеменника, живущего и понимающего интересы пасомых, говорящего на одном с ними языке, о. Антон Гриневич утверждал, что в этом желании «сказывается не только национальное самолюбие, но и требование весьма понятной „обходительности*1, как писалось в старинных южнорусских рекомендательных грамотах на посвящение во иерея». «О том, насколько уместны национальные идеалы в христианстве, где „несть еллин и иудей, раб и свободь“, не приходится много говорить. Особенно трогательная, горячая любовь Пастыря-Богочеловека к Своему родному иудейскому народу, — любовь, совместившаяся с безмерною Его любовью ко всему человечеству, — вот непоколебимое никакими казуистическими доводами основание, на котором зиждется желание народа иметь пастырем лицо, способное любить и уважать его традиции. Это желание, кроме того, поддерживается практическими, клонящимися к духовной пользе паствы интересами», — заключал он (Гриневич, 1905, 435-436). Таким образом, даже с «левого фланга» иногда звучали слова в защиту сохранения национальных традиций в церковной жизни, если они не противоречили христианским ценностям и православному вероучению.
В те же революционные годы с трактовкой слов ап. Павла выступил бессарабский священник и церковный журналист о. Алексий Арвентьев. Являясь противником предоставления равноправия всем народностям Российской империи и, главным образом, евреям (иудеям), пастырь категорически не соглашался со сторонниками такого равноправия, ссылавшимися на апостольские слова. Защитники равноправия заключают, писал он, что «по учению апостола Павла в государстве должны быть все равны и что обрезанные должны быть равноправны с необрезанными». «Но если прочесть два предыдущих стиха, то для нас будет весьма ясно, что здесь речь идет о тех людях, которые „совлеклись ветхого человека и облеклись в нового“, т. е. приняли веру во Христа», — замечал священник (Арвентьев, 1907, 888). Отсылая к известному толкованию этих слов свт. Феофаном Затворником (см. выше), о. Алексий утверждал: «В обоих посланиях речь идет не о земном государственном устройстве, а о правах всех людей без различия расы, пола и социального положения на получение благодати Божией. В Послании к Колоссянам чрез несколько строк после слов „нет ни еллина, ни иудея, раба и свободного“ говорится: „рабы, во всем повинуйтесь господам (ст. 22)“. Очевидно, что, говоря: „нет ни еллина, ни иудея, раба и свободного, но все и во всем Христос“, св. ап. Павел имеет в виду не устройство земного государства, а благодатное царство; иначе в словах апостола было бы противоречие: с одной стороны, в государстве нет рабов, а с другой — „рабы, повинуйтесь господам*. Таким образом, из сказанного следует, что, толкуя Св. Писание односторонне, прибегая к передержкам, можно доказывать многое, можно даже и наше „освободительное движение“ подтверждать текстами из Св. Писания» (Арвентьев, 1907, 888–889).
5. Продолжение дискуссии об апостольских словах
в последнее десятилетие Российской империи
В период «третьеиюньской политической системы», как называли годы после подавления Первой российской революции советские историки, или же «думской монархии», своеобразный расцвет которой пришелся на период столыпинских преобразований, споры о национализме получили новый импульс. Националистом современники не без оснований считали главу российского правительства П. А. Столыпина; при его поддержке заметное влияние получила организовавшаяся в 1908–1910 гг. партия русских националистов — Всероссийский национальный союз, ставшая проводником столыпинской политики. Дискуссия о национализме захватила образованные круги российского общества (Нация, 2003; Национализм, 2015). Не осталось в стороне от этой полемики и православное духовенство. Естественно, что дискутирующие стороны неизбежно обращались к словам ап. Павла, стараясь при их помощи доказать свою правоту. В этом отношении весьма примечательно высказывание с кафедры Государственной думы прот. Андрея Юрашкевича, бывшего в свое время ректором Минской духовной семинарии, а с 1911 г. служившего настоятелем Смольного собора в С.-Петербурге. Выступая в Государственной думе 13 января 1912 г., о. Андрей сделал отступление в своей речи, чтобы прояснить оппозиционным политикам значение апостольских слов: «Национализм, т. е. любовь к отдельной народности, противополагается любви ко всем народностям. Говорят, что любовь ко всем народностям гораздо выше, чем любовь к отдельной народности. Правда. Это святая правда. В основание этой правды приводится даже христианское начало: „несть эллин, ни иудей, раб и свободь“, хотя нужно сказать, иногда на этой кафедре тексты из Св. Писания толкуются не совсем верно и некстати. Да, это начало христианское — любовь ко всему человечеству, потому что все дети Отца Небесного, потому что у Господа Бога нет ни избранных, ни неизбранных племен, а есть дети более близкие и менее близкие, иначе сказать — более Его любящие и менее Его любящие. Вот мое богословское отношение к вопросу» (ГД III, 1912, 271). Поясняя далее свое представление о национализме, священник-депутат говорил: «Что, господа, означает национализм? Если ты христианин, если ты считаешь своей священной обязанностью любовно, законно, по-братски относиться ко всем национальностям, то в отношении своей национальности-то сделай еще прибавку, сделай еще нечто большее для своей народности. Ты любишь все народности, но по отношению к русской народности усиль эту любовь. Это все равно, как отец и мать могут любить, и обязаны любить все человечество как христиане, но к своим детям они обязаны иначе относиться, должны относиться любовнее. Вот, господа, и национализм есть не что иное, как добавочная любовь» (ГД III, 1912, 271-272). Таким образом, не подвергая ни малейшему сомнению апостольские слова, о. Андрей Юрашкевич находил возможность примирить их с особой любовью к своей народности, считая последнюю абсолютно естественной и не противоречащей церковному учению.
Очередной виток обсуждения национальной проблематики в церковной публицистике произошел в годы Первой мировой войны на фоне первоначального всплеска патриотических чувств и антинемецких настроений, которыми наравне с другими странами Антанты оказалась охвачена и Россия. Причем речь зачастую шла уже не столько о месте народности в системе православных ценностей, сколько непосредственно о национализме. А потому и в размышлениях над словами ап. Павла появились новые нюансы.
Архиепископ (позже — митрополит) Антоний (Храповицкий), всегда уделявший проблематике национализма особое внимание [Иванов, 2019, 58–78], в статье «Христианская вера и война» (1916) давал отповедь «космополитам» и «пацифистам», которые, по его словам, ссылаясь на апостольские слова и евангельский завет о любви к врагам, «искажают смысл священных изречений», потому как, во-первых, для начала необходимо полюбить ближних, а не быть к ним равнодушными; во-вторых, помнить, что слова апостола Павла сказаны о единстве во Христе, а не о том, что между русским, немцем и турком нет разницы; в-третьих, нужно стремиться к тому, чтобы полюбить «немцев и турок» как людей, проявляя к ним сочувствие и жалость («Христос велел любить людей всех вер и всех народностей»), но быть непримиримым к ним как к врагам отечества (Антоний Храповицкий, 2012, 230–233).
Православный богослов, церковный историк и профессор СПбДА А. А. Бронзов, полемизируя со статьей известного религиозного мыслителя либеральных взглядов прот. Константина Аггеева, категорически отвергавшего национализм как явление «осужденное Голгофским Крестом» (Аггеев, 1914), в частности, писал: «Конечно, в христианстве „нет уже иудея, ни язычника“™ (Гал 3:28), — нет ни немца, ни француза™ Но не в том смысле, в каком это угодно господам противникам всякого национализма… Христианство, утверждая, что, с его точки зрения, „нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского“… ни „иудея, ни язычника“ (ibid.), говорит лишь то, что духовная, нравственная природа тождественна у представителей всякой национальности, у исповедников всякой религии, у лиц всякого пола, у принадлежащих ко всяким сословиям… — чего, как известно, до христианской эпохи не признавали даже такие мыслители, каковы были: Сократ, Платон, Аристотель, Фалес и пр. <…> Христианство учит, что все люди, как таковые, равны между собою по их духовной природе, — что все, посему, одинаково способны к нравственному совершенству, все одинаково могут достигать спасения и проч.» (Бронзов, 1915, 74). Но национальностей, продолжал Бронзов, христианство не отрицает: «Бог, по христианскому учению, назначил людям „обитать по всему лицу земли“, — „назначил“ и „предопределенные времена и пределы их обитанию“ (Деян 17:26)™ Каждая нация, ограниченная известными „пределами“ и известным периодом „времени“ ее жизни, должна, — по мысли Творца, — в ее условиях „искать Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли…“» (Бронзов, 1915, 74–75). Отвергая шовинизм и «узкий патриотизм», публицист вместе с тем утверждал: «подлинный национализм — вещь почтенная, желательная и необходимая и заслуживает только похвалы, с каких бы сторон ни рассматривать его, а отсутствие национализма — нечто дурное, зловредное и, безусловно, нежелательное. <…> Есть самолюбие (Гал 5:14; Мф 22:39; Лк 10:27; Иак 2:8…) и себялюбие. Есть национализм и „национализм“» (Бронзов, 1915, 75).
В том же 1915 г. доцент СПбДА В. А. Беляев, размышляя о соотношении национализма и христианства, также приходил к выводу, что при определенных условиях «здоровый национализм» и вера Христова могут сосуществовать, не вступая в конфликт друг с другом. Не оспаривая универсальный характер христианской религии, то, что она лишена национальной исключительности, церковный публицист писал: «Известно, что такой универсальный характер христианство утвердило за собой не без борьбы. Даже некоторые из апостолов покровительствовали старому иудейскому партикуляризму или, по крайней мере, не разрывали с ним решительно. И нужна была вся энергия и нравственная мощь „апостола языков“, чтобы была одержана победа над остатками иудейского национализма, чтобы в христианстве возобладал универсальный дух и в душах верующих прочно утвердился принцип: „в Церкви Христовой несть эллин, ни иудей“» (Беляев, 1915, 891). Но этот универсализм, отвергающий иудейский и языческий партикуляризм, вовсе не означает, что национализм христианами должен рассматриваться исключительно «как ниспадение с духовных высот христианства на естественно-языческий уровень жизни». Национализм, по мнению В. А. Беляева, тоже имеет «свою правду» и бесспорное право на существование, потому что основывается на «естественном факторе национальности». «Конечно, — размышлял публицист, — он (национализм. — А. И .) знаменует собой известную ограниченность человеческого существования, его предел. Но это — такая граница, через которую все равно перешагнуть нельзя. А если так, то необходимо с ней примириться раз навсегда» (Беляев, 1915, 892). Раз национальность в нашей земной жизни «есть нечто неистребимое и непреодолимое», а любая подлинная культура всегда имеет выраженный национальный характер, то задача Церкви не отвергать национальный фактор, а возвышать, преобразовывать и совершенствовать его. В итоге автор приходил к выводу, что непреодолимого противоречия (антиномии) между христианским универсализмом и партикулярным национализмом нет, поскольку они представляют собой явления разного порядка — «понятие универсальности принадлежит к порядку идеальному, понятие же национальности есть понятие порядка реального» (Беляев, 1915, 893–894). Иначе говоря, стремясь к христианскому универсализму, нужно не отвергать национальные особенности, а облагораживать и корректировать их, чтобы последние служили делу спасения, а не вели к погибели.
6. Заключение
Подводя итог, можно отметить, что при всем разнообразии поводов, по которым в конце XIX — начале XX вв. православные священнослужители, богословы и церковные публицисты высказывались относительно слов ап. Павла, в их суждениях можно выделить то общее, что позволяет определить характерное для того времени понимание соотношения вселенского характера Христовой Церкви и национальной специфики, присущей как отдельным народам, так и Поместным Церквам. Рассмотренные публикации показывают, что их авторы, не подвергая сомнению «вселенскость»
христианства, в то же время были уверены в том, что эта универсальность не должна уничтожить множественность, представленную национальными культурами, характерами, духом, обычаями и традициями. Конечно, речь здесь идет преимущественно о христианских народах, и в первую очередь о православном русском народе. Но и существование самобытных народов, не просвещенных светом Христова учения, также рассматривалось как часть Промысла, преследующего не всегда понятные человеческому разуму цели Божественного домостроительства. Соглашаясь с тем, что в идеале все народности когда-то обретут единство в рамках общего «небесного гражданства», церковные публицисты считали, что произойдет это событие лишь в царстве не от мира сего, «благодатном царстве». В грешной же земной жизни христианство и «национализм» обречены на сосуществование, и задача Церкви — облагораживать, направлять и приближать к христианскому идеалу национальные устремления различных народов. Служа идее всечеловечества, считали они, Церковь не отрицает, что различные национальные культуры могут своими путями двигаться к общей цели — богопознанию, и именно в этой «цветущей сложности» заключается богатство и разнообразие церковной жизни.
Не видели православные публицисты противоречия апостольским словам и в том, чтобы проявлять по отношению к своему народу любовь бóльшую, нежели к другим. Соглашаясь с тем, что христианство призывает любить все человечество без различия рас и национальностей, многие авторы отмечали, что предпочтительная, «добавочная» любовь к своему отечеству и народу так же естественна и угодна Богу, как и особая любовь к своим ближайшим родственникам. Более того, эта предпочтительная любовь к своим, если в ней нет пренебрежения к чужим и возвышения над другими, является как бы ступенью на пути к следующему этапу духовного роста — любви всеобщей. Как Христос совмещал особую заботу о еврейском народе с любовью ко всему человечеству, так и Церковь Христова, являясь сверхнациональной в вопросах веры и спасения, может быть национальной в делах мирских, проявляя особую пастырскую заботу о народах, которые окормляет.
Вместе с тем важно отметить, что рассуждая о национализме, многие церковные публицисты конца XIX — начала XX вв. вкладывали в это понятие не тот смысл, которым наделяют его некоторые современные ученые, политики и журналисты. Отвергая с христианских позиций воинствующий, «языческий», секулярный национализм, ставящий своей целью лишь земное преуспеяние народа [Иванов, Чема-кин, 2018, 153–166], они защищали национализм, заключавшийся в праве народов (в данном случае русского) на свой особый духовный путь, культурную и государственную самобытность и самостоятельность. При этом особо подчеркивалось, что «правильный национализм» должен не только «любовно, законно, по-братски относиться ко всем национальностям», но и, главное, подчиняться христианской идее, а не преобладать над ней и не претендовать на главенствующее значение в жизни христианского общества.
Список литературы "Ни эллина, ни иудея": трактовка слов апостола Павла в русской церковной публицистике конца XIX - начала XX вв
- Аггеев К. М., свящ. Национализм и религия // Биржевые ведомости. 1914. 9-10 декабря.
- Арвентьев А., свящ. Злоупотребление словом Божиим // Кишиневские епархиальные ведомости. 1907. № 27-28. С. 887-889.
- Беляев В. А. Национализм, война и христианство // Христианское чтение. 1915. № 7-8. С. 887-908.
- Бронзов А. А. Предосудителен ли "национализм"? // Церковный вестник. 1915. № 3. С. 71-75.
- Введенский Д. И. Общехристианское единение и национальная самобытность народов // Вера и Церковь. 1901. Кн. 3. С. 364-382.
- Государственная дума. Созыв III. Сессия V. Ч. 2. СПб.: Государственная типография, 1912.
- Гриневич А., свящ. Приходский пастырь по идеалу простого народа // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. 1905. № 36. С. 433-436.
- И. Б. Вселенская церковь и национальное обособление народов // Вера и Церковь. 1899. Т. 2. Кн. 6. С. 773-785.
- Иванов А. Н. свящ. Существенные черты православного вероучения // Тульские епархиальные ведомости. 1892. № 18. С. 157-162.
- Каверзнев С., свящ. Слово в день рождения государя императора Николая Александровича // Смоленские епархиальные ведомости. 1905. № 11-12. С. 585-591.
- Капралов Е. З., свящ. Национальность и христианство // Ставропольские епархиальные ведомости. 1892. № 10. С. 269-274.
- О значении национального элемента в историческом развитии христианства. (Речь, произнесенная в торжественном собрании Киевской духовной Академии 28 сентября 1880 года экстраординарным профессором Академии М. Ковальницким). Киев: Типография Г. Т. Корчан-Новицкого, 1880.
- Лопухин А. П. Толковая Библия или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. СПб.: Бесплатное приложение к журналу "Странник", 1913. Т. 11.
- Лужецкий Д. Г., свящ. Слово в день рождения благочестивейшего государя императора Николая Александровича // Калужские епархиальные ведомости. 1898. № 10. С. 337-342.
- Национализм: полемика 1909-1917 / Сост. М. А. Колеров. М.: Модест Колеров, 2015.
- Национализм: pro et contra, антология / Сост. А. А. Иванов, А. Л. Казин, А. Э. Котов, М. В. Медоваров. СПб.: РХГА, 2017.
- Нация и империя в русской мысли начала XX века / Сост. С. М. Сергеев. М.: Скимен, 2003.
- Никольский В. А. Христианство, патриотизм и война. Казань: Типолитография Императорского университета, 1904.
- Областной съезд миссионеров южных епархий в городе Одессе (с 20 по 24 сентября 1905 года), его труды и постановления // Херсонские епархиальные ведомости. 1906. № 3. С. 48-64.
- Андрей (Ухтомский), архим. Национальное обособление христианских народов и историческая задача Церкви // Богословский вестник. 1899. Т. 2. № 6. С. 194-208.
- Феофан Затворник, свт. Толкование Посланий апостола Павла к Колоссянам, к Филиппийцам. М.: Правило веры, 2005.
- Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М.: Правило веры, 2010.
- Митрополит Антоний (Храповицкий). Сила Православия / Сост. А. Д. Каплин. М.: Институт русской цивилизации; Алгоритм, 2012.
- Иванов А. А. Проблематика русского национализма в статьях и проповедях митрополита Антония (Храповицкого) // Русин. 2019. № 58. С. 58-78.
- Иванов А. А., Чемакин А. А. Православное духовенство и русский национализм в начале XX в. // Вопросы истории. 2018. № 9. С. 153-166.
- Косик В. И., Темелски Хр., Турилов А. А. Болгарская православная церковь // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр "Православная энциклопедия", 2002. Т. 5. С. 615-643.
- Сухова Н. Ю. "Вера и Церковь" // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр "Православная энциклопедия", 2004. Т. 7. С. 701-702.
- Сысоев Д., свящ. Аргументы за уранополитизм // Livejournal. URL: https://pr-daniil.livejournal.com/57596.html (дата обращения: 21.08.2020).
- Сысоев Д., свящ. Уранополитизм или патриотизм // Livejournal. URL: https://pr-daniil.livejournal.com/36110.html (дата обращения: 21.08.2020).
- Сысоев Д., свящ. Уранополитизм и патриотизм // Уранополитизм. Небесное гражданство. URL: https://uranopolitism.wordpress.com (дата обращения: 21.08.2020).
- Каллист (Уэр), еп. "Ни иудея, ни эллина": вселенское и национальное // Страницы: Богословие. Культура. Образование. 2013. Т. 17. № 2. С. 229-238.
- Филатов С., Лункин Р. Эллин и иудей в церковной ограде РПЦ // Религия и российское многообразие. М.; СПб.: Летний сад, 2011. С. 190-211.
- Чемакин А. А. Российское православное духовенство и русский национализм в начале XX в.: степень изученности проблемы // Государство, общество и Церковь: российская нация и национальное единство. Новосибирск: СибАГС, 2019. Ч. 2. С. 350-352.