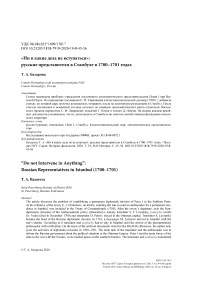"Ни в какие дела не вступаться": русские представители в Стамбуле в 1700-1701 годах
Автор: Базарова Татьяна Анатольевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме учреждения постоянного дипломатического представительства Петра I при Высокой Порте. По инициативе посланника Е. И. Украинцева в Константинопольский договор (1700 г.) добавили статью, по которой царь получил возможность отправить посла на постоянную резиденцию в Стамбул. После отъезда посланника в османской столице остались не имевшие дипломатического ранга служители Посольского приказа переводчик С. Ф. Лаврецкий, подьячий Г. Юдин и толмач Д. Петров. На основе анализа архивных документов установлено, что их деятельность в Стамбуле во многом соответствовала функциями посольского секретаря.
Русско-турецкие отношения, петр i, стамбул, константинопольский мир, дипломатическое представительство
Короткий адрес: https://sciup.org/147220247
IDR: 147220247 | УДК: 94(48).052“1699/1701” | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-8-45-56
Текст научной статьи "Ни в какие дела не вступаться": русские представители в Стамбуле в 1700-1701 годах
Bazarova T. A. “Do not Intervene in Anything”: Russian Representatives in Istanbul (1700–1701). Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2020, vol. 19, no. 8: History, p. 45–56. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2020-19-845-56
В начале XVIII в. Посольский приказ обладал значительным опытом дипломатических контактов с Османской империей. В XV–XVII вв. в Стамбуле с различными поручениями побывало несколько десятков русских посольств и гонцов. Для выполнения дипломатических поручений послам доводилось задерживаться в турецкой столице на несколько месяцев или даже лет. С ответными визитами Москву посещали послы и гонцы из Османской империи. Однако дипломатические связи между двумя государствами не были регулярными. Случалось, что разрывы в обмене миссиями составляли несколько десятков лет [Теплов, 1891. С. 1–8; Смирнов, 1946; Петросян, 1998. С. 104–112; Фаизов, 2007]. Развитию русско-турецких отношений мешало отсутствие общей границы и слабость взаимных торговых интересов. Гораздо чаще Москва отправляла послов в вассальное турецкому султану Крымское ханство, что было связано и с попытками заключить договор, и с военными конфликтами, и с выплатой поминок. В петровскую эпоху ситуация существенно изменилась. После окончания русско-турецкой войны (1686–1700) царь намеревался оставить в прошлом выплату крымцам поминок и развивать дипломатические контакты напрямую с Высокой Портой.
Первыми петровскими дипломатами в Стамбуле стали чрезвычайный и полномочный посланник думный дьяк Е. И. Украинцев и дьяк И. П. Чередеев. В сентябре 1699 г. они прибыли на берега Босфора на русском корабле «Крепость». Главная цель их посольства состояла в подписании мирного договора или длительного перемирия. Петр I готовился начать войну со шведами и с нетерпением ожидал обнадеживающих вестей из Стамбула. Однако переговоры посланников с османскими министрами затянулись почти на десять месяцев. Договор о мире сроком на тридцать лет был заключен 3 июля 1700 г. [ПСЗ, 1830. № 1804. С. 66–72; ПБП, 1887. № 318. С. 368–378].
Константинопольский договор обозначил новый этап развития русско-турецких отношений и вывел российские дела из прерогативы крымских ханов. Одним из свидетельств нового значения Османской империи во внешней политике России стало учреждение постоянного представительства при Высокой Порте. Судя по инструкции, которую в 1699 г. получил Е. И. Украинцев, царь при отправке чрезвычайного посланника не рассматривал такую возможность. Уже в османской столице общение с представителями Высокой Порты и западноевропейского дипломатического корпуса подвели посланника к мысли о необходимости пребывания при Высокой Порте и русского резидента.
По наблюдению М. М. Богословского, впервые речь об этом зашла на встрече Е. И. Украинцева с великим драгоманом Александром Маврокордато 1, которая состоялась 2 мая 1700 г. [Богословский, 2007. С. 230]. В тот день обсуждалась процедура подписания, перевода и обмена текстами мирного договора. Посланники предложили османским министрам после заключения мира оставить «в запас» (поскольку не имели на это царского указа) в Стамбуле русского резидента. А. Маврокордато усмотрел в этом взаимную выгоду двух государств: «когда прилучатца какие порубежные ссоры, и те всякие ссоры могут успокоиваться и отправляться чрез того резидента. А для малых дел присылать нарочное посольство на обе стороны напрасный убыток будет» [Богословский, 2007. С. 168, 230]. Последствием беседы стало добавление в текст Константинопольского договора тринадцатого пункта, который гарантировал русскому представителю свободы и привилегии равные с другими европейскими дипломатами. Статья мирного трактата гласила: «Для творения и подвижения на данных делах, буде когда надобно будет (курсив наш. – Т. Б.) резиденту царского величества у Блистательной Порты пожить, он и толмачи его свободами и привилегиями да почтутся, какими и иных друзей Блистательной Порты принцыпов резиденты почитаны быть обыкли, и во время мира людям его с письмами туда и сюда переезжающими, проезжая да дастся и честное всякое вспоможение да творится» [ПСЗ, 1830. № 1804. С. 71].
На встрече, состоявшейся 29 мая 1700 г., А. Маврокордато передал Е. И. Украинцеву пожелание Высокой Порты до прибытия с ратификационной грамотой великого посла оставить в Стамбуле дьяка И. П. Чередеева [Богословский, 2007. С. 230–231, 248–249]. Возможно, османское правительство побудило выдвинуть данное предложение неспокойная ситуация в Европе, где северные союзники начали войну против шведского короля Карла XII. В феврале польско-саксонские войска вторглись в Лифляндию и осадили Ригу, а в марте датские войска пересекли границу Голштинии. В конце апреля 1700 г. в османской столице появились слухи, что Петр I тоже воюет со Швецией и готовится к штурму Нарвы. По мнению А. Маврокордато, в связи с военными действиями на севере Европы царь будет заинтересован в получении регулярных сообщений из османской столицы. Драгоман пообещал относиться к И. П. Чередееву как к чрезвычайному посланнику, а не резиденту, и предоставить двор и кормовые выплаты, соответствующие такому статусу. Тем не менее, 31 мая Е. И. Украинцев объявил А. Маврокордато, что без особого указа государя И. П. Чередеев не может задержаться в Стамбуле. Однако «для общего добра» двух держав посланник согласился на пребывание в османской столице секретаря и переводчика [Там же. С. 231].
Второго августа 1700 г., после отпускных аудиенций у великого везира и султана, Е. И. Украинцев и И. П. Чередеев отправились в обратный путь. Они везли в Москву султанскую грамоту и подлинный экземпляр договора [Там же. С. 309, 312]. В Стамбуле остались переводчик польского и латинского языков Семен Федорович Лаврецкий и подьячий Григорий Юдин, а также толмач Дмитрий Петров 2. Главой миссии Е. И. Украинцев назначил С. Ф. Лаврецкого. Подьячему и толмачу предписывалось быть послушным переводчику и «противности ни в чем никакой не чинить» 3. Срок их пребывания в османской столице зависел от прибытия чрезвычайного полномочного (великого) посла с ратификацией мирного договора. Согласно его последней статье, царскую грамоту в Стамбул следовало доставить не позднее чем через полгода после отъезда оттуда Е. И. Украинцева [Там же. С. 231]. После вручения ратификации султану, получения ответной грамоты и отпускной аудиенции переводчик и подьячий должны были покинуть Османскую империю вместе с послом и его людями.
В научной литературе, посвященной русско-турецким отношениям петровского времени, сложно найти даже отрывочные сведения о деятельности этой небольшой русской дипломатической миссии в Стамбуле. М.М. Богословский о ней лишь кратко упоминает [Там же. С. 283–284, 307–308]. Между тем, в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) в фонде 89 (Сношения России с Турцией) отложился комплекс документов, касающихся пребывания С. Ф. Лаврецкого и других служителей Посольского приказа в Стамбуле в 1700–1701 гг. Прежде всего, это отправленные из османской столицы донесения и «особые записки», а также статейный список, которые отражают не только различные ас- пекты деятельности дипломатов, но и содержат ценнейшие сведения о повседневной жизни в Стамбуле в начале XVIII в.
Поскольку С. Ф. Лаврецкий и Г. Юдин остались в турецкой столице по просьбе Высокой Порты, то она взяла на себя содержание переводчика, подьячего и их людей. С. Ф. Лаврецкий и Г. Юдин покинули двор, который прежде занимали вместе с посланником, и перебрались на более скромный в другой части Стамбула. По согласованию с А. Маврокордато им предоставили дом на Фонарской улице: в районе, где проживали греки и имел свою резиденцию великий драгоман. Высокая Порта стала выплачивать С. Лаврецкому и Г. Юдину денежное содержание в размере 6 левков в день (в ноябре его увеличили до 10) 4.
В свои записки в Посольский приказ С. Ф. Лаврецкий начинал с упоминания о поручении чрезвычайного посланника «проведывать о здешнем поведении», докладывать «о поведении в турском государстве» 5. В своем статейном списке Е. И. Украинцева изложил наказ, который он дал перед отъездом переводчику и подьячему. Им надлежало «поступать со всякой осторожностью и жить с великим бережением и учтивостию. А посланником, и резидентом, и агентом, и консулем себя не имяновать и ни в какие дела не вступатца» 6. С. Ф. Лаврецкому и Г. Юдину также запрещалось посещать османских министров или их служителей, передавать или принимать письма, а также общаться с западноевропейскими дипломатами 7. Как отметил М. М. Богословский, «этими предписаниями деятельность Лаврецкого и Юдина была совершенно парализована». Им следовало лишь собирать информацию и пересылать отписки в Посольский приказ через иерусалимского патриарха Досифея [Богословский, 2007. С. 308]. Однако с выводом М. М. Богословского нельзя согласиться. Отсутствие аккредитации и дипломатического ранга давало переводчику и подьячему важное преимущество – ослабление контроля со стороны Высокой Порты и свободу передвижения по османской столице (а, следовательно, и общения с агентами и «приятелями»). Позднее, в 1713 г. чрезвычайный и полномочный посол вице-канцлер П. П. Шафиров с этой целью также будет стремиться оставить в Стамбуле после своего отъезда кого-нибудь в качестве резидента или корреспондента [Базарова, 2016. С. 136].
Зимой 1700 г. подьячий Г. Юдин тяжело заболел. С. Ф. Лаврецкий доложил в Москву, что 23 декабря тот «пал в немочь» и через три дня скончался. Сам переводчик с толмачом Д. Петровым и остальными людьми был вынужден переселиться на другой двор из-за опасения заразной болезни и начала эпидемии 8. Однако С. Ф. Лаврецкий недолго оставался в османской столице без «товарища».
В Москве не успевали снарядить посольство в предписанный договором шестимесячный срок 9. Для того чтобы у Высокой Порты не возникло подозрений, Посольский приказ с грамотой о скором прибытии великого посла отправил гонцом к турецкому султану Михаила Родионовича Ларионова. Старый подьячий Посольского приказа имел значительный опыт европейских поездок: он побывал с дипломатическими поручениями в Англии, Голландии, Пруссии и Флоренции (1687–1688), а также был среди участников Великого посольства (1697–1698) [Серов, 2008. С. 53]. 11 декабря 1700 г. М. Р. Ларионов выехал из Москвы 10 и через два месяца, 6 февраля 1701 г., прибыл в Стамбул.
Согласно полученному указу, подьячему надлежало доставить в Стамбул царские грамоты и затем дождаться приезда посла. В статейном списке М. Р. Ларионова содержится под- робное описание дороги в османскую столицу, церемоний въезда и вручения царских грамот. Девятнадцатого января 1701 г., спустя месяц пути, подьячий добрался до расположенного за Дунаем пограничного местечка Мачине (Мечине). Там он получил сопровождающего – пристава Исмаила-агу, с которым поехал в Стамбул 11. В османской столице подьячего встречали с почетом как важного гонца от дружественного монарха. Шестого февраля в двух часах езды до города к нему присоединились три чауша и четыре янычара. М. Р. Ларионов въехал в Стамбул на лошади, которую ему прислал А. Маврокордато (по посольскому обычаю гонцам лошадь от султана не положена) и был поставлен на дворе, где прежде жил Е. И. Украинцев («в полате, которая Михайлу отведена, посланы четыре ковра турских да у стен положены четыре подушки триповые з золотом») 12. Статус царского гонца Порта признала более высоким, чем у переводчика С. Ф. Лаврецкого, что отразилось и на денежном содержании. М. Р. Ларионову Высокая Порта назначила корм по 15 левков в день 13.
Руководство Посольского приказа не возложило на М. Р. Ларионова единоличное руководство дипломатической миссией. В Стамбуле он передал С. Ф. Лаврецкому распоряжение из Москвы: «чтоб он, Семен… о всяком тамошнем поведении и о чем случится ево спросить, ему объявил. И в делех великого государя с ним поступал, и о ведомостях к нему, великому государю, писал обще» 14. Выполняя наказ, С. Ф. Лаврецкий ввел подьячего в суть дел, объяснил политическую ситуацию, а также особенности местного дипломатического обычая. Седьмого февраля, на следующий день после въезда в османскую столицу, М. Р. Ларионов послал приехавшего с ним толмача татарского языка Афанасия Постригачева к А. Мавро-кордато с официальным сообщением о прибытии царского гонца 15. Некоторое время заняло согласование порядка передачи грамот. Вначале М. Ларионов и С. Лаврецкий побывали на приеме у рейс-эфенди. Царский гонец намеревался лично вручить грамоту турецкому султану. Однако османы настояли на передаче ее согласно устоявшемуся обычаю через великого везира. Предварительно рейс-эфенди сверился «…в канцелярии з записными книгами прежних поведений» 16. Двадцать второго февраля Михаил Ларионов был на аудиенции у великого везира, а 25 февраля – у султана.
После официальных аудиенций переводчик и посланник стали согласно полученному наказу действовать «обще». Они оба подписывали донесения в Посольский приказ и вели единый статейный список. Отписки с отчетами русские представители отправляли в Москву нерегулярно, поскольку были вынуждены дожидаться надежной оказии. С. Ф. Лаврецкий сетовал: «отсель никакия почта не отпускается и не ходит ни туды, ни сюды» 17. По-види-мому, первую «особую записку» переводчик (еще вместе с Г. Юдиным) отослал в Посольский приказ 3 октября 1700 г. Ее доставку они возложили на отбывавшего в Москву архимандрита Хрисанфа (племянника патриарха Досифея). В дальнейшем, согласно наказу, С. Ф. Лаврецкий передавал письма патриарху, и тот переправлял их в Москву. Также переводчик поручил доставить несколько посланий греческим торговым людям. Сложно сказать, все ли донесения доходили до Посольского приказа. В мае 1701 г. уже в Адрианополе С. Ф. Лаврецкий и М. Р. Ларионов узнали, что патриарх Досифей «убоялся» и не переслал их письма послу Д. М. Голицыну, и потребовали вернуть свои недоставленные послания 18.
Из-за того, что пакеты из Москвы приходили в Стамбул нерегулярно и с большой задержкой, русские представители были плохо осведомлены о событиях в России. Например, первые известия о поражении русской армии под Нарвой в османскую столицу поступили из Западной Европы. С. Ф. Лаврецкий и М. Р. Ларионов поначалу отнеслись к слухам с недове- рием. Двадцать шестого февраля 1701 г. польский шляхтич Александр Былинский сообщил им о разгроме царского войска и в подтверждение своих слов прочитал печатный лист курантов 19. В ответ М. Р. Ларионов «против ведомостей о московских войсках ему, Александру, сказал, что курантам верить нечего, потому что в них являетца много лжи и печатают их в немецких странах, а имянно в самой свейской земле, в городе Риге. А болше в тех курантах они, немцы, износят то, чтоб было их немецкому народу к похвале, а иным ко уничижению. И он, Михайло тем вестям не верит», потому что поехал из Москвы «гораздо спустя», а вестей о поражении от шведов не было 20. Через два дня неутешительные сведения, полученные от французских купцов, о поражении русской армии под Нарвой сообщил русским дипломатам С. Л. Владиславич-Рагузинский, который также зачитал «печатные авизы» 21. В конце концов С. Ф. Лаврецкому и М. Р. Ларионову пришлось поверить плохим вестям: 11 марта весть о поражении царя под Нарвой доставили от иерусалимского патриарха 22. Тем не менее, в апреле 1701 г., не имея достоверных известий из Москвы, С. Ф. Лаврецкий и М. Р. Ларионов отказались отвечать на прямой вопрос рейс-эфенди о «поведении воинском с шведы»: официальных сообщений не приходило, а слухи они не желали обсуждать 23.
В Стамбуле С. Ф. Лаврецкий (сначала вместе с Г. Юдиным, а затем с М. Р. Ларионовым) стремился наиболее полно выполнить свое главное поручение – информировать Посольский приказ о самых важных событиях («будучи здесь… проведывать о здешнем поведении и, проведав, о том к тебе, великому государю, к Москве писать») 24. Сведения о событиях в Османской империи и в Западной Европе он получал от разных лиц. Перед отправкой корреспонденции в Москву сообщения по возможности проверялись по другим источникам. С. Ф. Лаврецкий встречался и беседовал с османскими министрами. Информацией официального характера, непосредственно касавшейся русско-турецких отношений, с переводчиком делился А. Маврокордато. Семен Лаврецкий один (или вместе с подьячим) посещал двор великого драгомана и подолгу с ним беседовал. Например, третьего сентября 1700 г. переводчик и подьячий постарались узнать у А. Маврокордато, были ли посланы султанские указы «в порубежные места» о сохранении мира и запрете набегов на русские земли. Также их интересовали сведения об отпускных аудиенциях цесарского и венецианского послов 25. Весной 1701 г. С. Ф. Лаврецкий расспрашивал А. Маврокордато и рейс-эфенди Рами Мехмеда-пашу о возвращении чрезвычайного посланника в Россию и местонахождении великого посла 26.
Другим важным источником информации (как и в бытность в Стамбуле Е. И. Украинцева) оставался иерусалимский патриарх Досифей. В отправленных с берегов Босфора в Посольский приказ донесениях не упоминаются личные встреч С. Лаврецкого с патриархом. Общение велось через пересылку: или переводчик посылал к Досифею толмача, или кто-либо приходил с патриаршего двора.
На русский двор высокопоставленные персоны (европейские дипломаты или османские чиновники) не заходили. Лишь раз С. Ф. Лаврецкого посетил капыджи-баша Магмет-ага. Он был приставом у русских посланников и получил назначение состоять и при полномочном после. Магмет-агу интересовало, когда великий посол прибудет в земли Османской империи. Помимо «ближних людей» Досифея на русском дворе часто бывал «венециянин» С. Л. Вла- диславич-Рагузинский, приносили письма греческие торговцы. Например, 1 ноября 1700 г. переводчика и подьячего посетил доктор Антоний Кара, сообщивший о «смятении» в Крыму и прибытии в Стамбул татарской делегации просить султана «на ханство некакова прежде бывшаго хана, которой сослан на Белое море в Кипрский остров» 27. Тридцатого января 1701 г. «из новой слободы, что за Галатою» на посольский двор пришел «гречанин» Иван Алексеев и принес письмо Е. И. Украинцева, переданное ему в Нежине 28. Однако, как правило, С. Ф. Лаврецкий или толмач Дмитрий Петров беседовали с информаторами вне посольского двора. В «особых записках» упоминаются бенедиктинец ксендз Бернарди (сообщил о подготовке войны за испанское наследство) 29, «ближний человек» патриарха Досифея Енакий (рассказал о ссорах французского посла с османами) 30, рагузинец Лука Барка-старший и др. Также по приказу Семена Лаврецкого Дмитрий Петров не раз «для проведывания» ходил на везирский двор.
Таким образом, в своих донесениях в Посольский приказ С. Ф. Лаврецкий не только не скрывал, но и детально описывал встречи с османскими чинам и иноземцами. Можно предположить, что полученный им запрет касался только обсуждения вопросов, имевших отношение к государственной политике. По-видимому, осторожный Е. И. Украинцев включил в свой статейный список несколько подкорректированный текст наказа, чтобы в случае ошибки переводчика снять с себя ответственность.
В первую очередь русские представители стремились получить информацию о военном потенциале Османской империи и о военных приготовлениях 31. В конце ноября 1700 г. тревожные сведения принес С. Л. Владиславич-Рагузинский. По его словам, османы начали «великое приуготовление» к новому походу, «льют вновь пушки, и старые чистят, и починивают карабли старые». Рагузинец предположил: Порта готовит флот к нападению на Морею, но предостерег: «толко турки народ луковой, надобно опасатись, чтоб никого иного не пошли» 32. Однако в докладе в Посольский приказ С. Ф. Лаврецкий выразил мнение, что поход будет против венециан, с которыми у турок обострились земельные споры. За дополнительной информацией он отправил толмача к иерусалимскому патриарху, который также посчитал, что османский флот готовят для захвата Мореи 33.
Тридцать первого января 1700 г. на двор к С. Ф. Лаврецкому пришел «невольник», бывший казанский стрелец Никитка и сообщил, что на верфи Терсане чинят корабли и новые строят. По слухам, османы хотят идти под Керчь, там нагрузить камнями и загородить корабельный проход в керченское гирло 34. Писал переводчик и о возможности нападения османского флота и армии на Морею (пока великие державы будут заняты в войне за Испанское наследство) 35. Он также передал в Москву известия о событиях в отдаленных частях Османской империи: о взятии турецкой армией Вавилона 36, а также об осаде арабами Багдада и неспособности присланного туда войска подавить восстание 37.
В Посольский приказ отсылали сведения о переменах в правительстве Османской империи и вассальных государствах. Четырнадцатого октября султан сменил кизляр-агу («начальной человек у всех арапов», т. е. главу евнухов) и забрал у него в казну «множество денег» 38. Передали в Москву и полученную из разных источников информацию о неспокойной ситуации в Крыму и о смене османами хана. С. Ф. Лаврецкий написал в Москву, что 4 сентября новым волоским (молдавским) господарем был назначен Константин Дука. Пятнадцатого октября новый господарь на отпускной аудиенции у султана был с 12 боярами, получил соболью шубу и булаву и 30 октября покинул Стамбул 39.
По отъезде в Москву Е. И. Украинцева с грамотой о перемирии в Стамбуле еще оставались цесарский и венецианский послы. Император направил своего посла для ратификации Карловицкого договора. Венецианские дипломаты (как и российские) в Карловичах договорились о перемирии, и дальнейшие мирные переговоры проходили в османской столице. Согласно полученному наказу, С. Ф. Лаврецкий отправлял в Москву известия и о ходе переговоров, и о дипломатических церемониях. Полученные от А. Маврокордато и патриарха Досифея сведения он дополнял и личными наблюдениями. Десятого сентября 1700 г. С. Ф. Лаврецкий и Г. Юдин вместе с жителями Стамбула стали свидетелями отъезда с берегов Босфора доставившего ратификацию мирного договора цесарского посла. В донесении в Посольский приказ переводчик отметил: «А как он, посол, ехал от салтана до своего посол-ского двора, и перед ним вез секретарь ево посолской на обеих руках салтанскую грамоту в материи участиковой серебряной травы, пеней золотые высокие» 40. В апреле 1701 г. С. Ф. Лаврецкий и М. Р. Ларионов сообщили, что переговоры венецианского посла с османами, которые не раз из-за взаимных претензий грозили сорваться, совершились заключением перемирия сроком на двадцать лет. Шестого апреля «по розмене писем… была на радости стрелба многая ис пушек» 41.
С. Ф. Лаврецкий и Г. Юдин также сообщили о прибытии 26 октября с Белого моря турецкой эскадры из двенадцати кораблей (на следующий день пришли еще двадцать четыре галеры) 42. Переводчик и подьячий присутствовали на празднике, устроенном в честь возвращения османского флота из похода, и отразили в отчете свои впечатления: «…музыка турецкая играла зело согласно и умиленно слышательно, и тогда же метались два человека по канатам…» 43. В тот день султан принял и наградил капитан-пашу в своем прибрежном дворце. Затем мимо дворца сначала проследовала галера капитан-паши, а затем прошли строем остальные суда – корабли по два, а галеры по три. Во время морского парада стреляли из пушек с кораблей и каторг, «и было той стрелбы часа с четыре». Многочисленные местные жители наблюдали за судами с пристаней и мелких судов 44.
В конце XVII – начале XVIII в. в османской столице было неспокойно. Реформы, которые проводил великий везир Хусейн-паша, должны были привести к росту доходов султанской казны, значительно оскудевшей в годы войны со Священной лигой (1683–1699). Однако сокращение расходов на армию и увеличение налогов на горожан и ремесленников вызывали в народе недовольство и грозили беспорядками [Орешкова, 1971. С. 42–43]. Против великого везира Хусейн-паши выступала и придворная группировка, которую возглавлял великий муфтий.
Русские дипломаты стали свидетелями волнений и роста недовольства политикой султана и великого везира среди горожан и янычар. Султан Мустафа II опасался находиться в Стамбуле и большую часть года проводил в окрестных селениях. На короткое время, когда без его присутствия правительство не могло обойтись, султан возвращался в свой дворец. М. Ларионов упоминал, что «за страхом от янычан всю осень салтан в Царегороде не жил» 45. Тема народного недовольства верхами Османской империи и угрозы бунта не раз появлялась в отправляемых в Москву отчетах. С. Ф. Лаврецкий и М. Р. Ларионов докладывали, что 9 марта 1701 г. «в Царегороде… турки всенародно вопили на салтана», что полякам без боя отдал Каменец и Буджацкую землю гяурам-полякам очищает 46. Двенадцатого марта толмач Дмитрий Петров сообщил переводчику и подьячему, что на дворе великого везира обнаружили «писмо подкидное турское», с угрозами в случае, если тот вслед за султаном покинет Стамбул 47.
Семен Лаврецкий дважды сообщал в Москву о внезапном повреждении известнейшего античного памятника – Змеиной колонны, которое жители Стамбула расценивали как недоброе предзнаменование. Сначала переводчик написал кратко: «Столп троеглавны змииныя, который был медный и стоял яко предивная вещь и чюдо некакое меж двух иных столпов посреди коннорыстания, или торжаща цариграцкого, внезапно без всякого ветреннняго пого-дия ламался посреди попалам внечаемо. И чают, что не без знака то учинилось» 48. В следующем донесении переводчик рассказал о происшествии подробнее: «В Цареграде на большой площади против болшой мечети Магмет салтана, недалече от Софии меж двемя высокими 25 каменными столпами строения древняго еще царя Феодосия Великого поставленный медный витой столп о трех медных змииных главах, которой все християне государства ставят турком в знамя его турское и называют Керестом, изволением божием без всякой бури и ветру в самой тихой солнечной день после вечерни часа за три до ночи против 10-го числа октября месяца переломился. Главы все три на землю упали, а столпа того еще осталось вышины близ дву человек. И доныне стоит без голов не починен. И турки люди старые и чину высокого законоположники, и муфтии, и шихи, се есть учители их искусные великое то имеют предугодателство будущаго своего падения или государству всему, или государю их» 49. В таком же контексте (как предзнаменование грядущих потрясений) рассматривалось и землетрясение, состоявшееся ночью 20 декабря 50.
Наконец, в конце февраля в дни Байрама у мечети некий «ворожей» предсказал султану, что его хотят свергнуть и возвести на престол младшего брата или племянника. Если же султан хочет сохранить свою жизнь, то должен на пять месяцев оставить Стамбул 51. Это предсказание побудило Мустафу II спешно покинуть столицу. Сначала он выехал в загородное селение, а 15 марта со всем двором и служивыми людьми отправился в Эдирне, указав через месяц ехать туда и великому везиру 52.
Фиксировавшими, казалось бы, малозначительные детали русскими дипломатами руководили не любопытство или праздный интерес. Смена султана и правительства, благожелательно настроенных к России, могла повлиять на судьбу ратификации мирного договора. Занятый войной со шведами Петр I остро нуждался в мире на южных границах своей державы. Сведения о приеме и отпуске европейских посольств особую важность приобретали в связи со скорым прибытием из Москвы чрезвычайного и полномочного посла. Русские дипломаты настаивали (дабы не уронить чести своего государя), что встреча, прием и отпуск царского посла должны проходить с не меньшей торжественностью и почестями, чем у цесарского посла, прибывшего к Порте с такой же целью – для ратификации мира. С. Ф. Лаврецкий и М. Р. Ларионов неоднократно затрагивали эти вопросы на встречах с османскими министрами. Первого марта 1701 г. будучи на приеме у рейс-эфенди они постарались узнать, как будет организована встреча и какой именно двор османы предназначили царскому послу. С. Ф. Лаврецкий и М. Р. Ларионов намеревались заранее посетить этот двор, чтобы определить, пристойно ли государеву послу на нем остановиться или нет 53.
Двадцатого апреля С. Ф. Лаврецкому и М. Р. Ларионову позволили вслед за османским правительством выехать в Эдирне, куда перенесли и встречу царского посла 54. В ожидании Д. М. Голицына С. Ф. Лаврецкий и М. Р. Ларионов снова обсуждали с рейс-эфенди и А. Маврокордато церемонию въезда в город и настаивали на том, чтобы она «была учинена по достоинству со всякою честию, как прииманы цесарские послы» 55. С разрешения Высокой Порты они тщательно осмотрели предназначенный для проживания посла двор. Рейс-эфенди заверял: «Двор-де отведен ему, великому послу, доброй с садом, какова другова в Адрианополе пространством нет, и в месте удобном, и на воздухе добром. А около того двора неподалеку дворяном и иных чинов людям, которые вместится не могут, назначено и отведено будет розных тритцать дворов» 56. Однако по осмотру оказалось, что он располагался в переулке и многое строение обветшало. Впрочем, рейс-эфенди пообещал до прибытия посла исправить все недоделки 57, а А. Маврокордато – выделить для посольских дворян еще шесть соседних зданий 58. Четырнадцатого мая С. Лаврецкий и М. Ларионов выехали навстречу послу Д. М. Голицыну 59.
С прибытием чрезвычайного и полномочного посла миссия С. Ф. Лаврецкого и М. Р. Ларионова утратила самостоятельный характер. Согласно полученному из Москвы указу, они перешли в подчинение Д. М. Голицына, выполняли его поручения и после отпускной аудиенции, в сентябре 1701 г. выехали на родину 60.
По завершении миссии Д. М. Голицына в Москве началась подготовка отправки посла на постоянную резиденцию. Двадцатого ноября 1701 г. Петр I указал «для своих великого государя государственных дел» послать к турецкому султану стольника Петра Андреевича Толстого (1645–1729) 61. Двадцать девятого августа 1702 г. посол прибыл в Эдирне (Адрианополь), где находились султан Мустафа II и его правительство. Осенью 1703 г. вслед за двором нового султана Ахмеда III и османскими министрами посол перебрался в Стамбул, где и находился в течение следующих одиннадцати лет.
Итак, в петровскую эпоху окказиональная дипломатия (направление не связанных друг с другом посольств по различным вопросам) постепенно уходила в прошлое. Одно из первых постоянных дипломатических представительств России появилось в Стамбуле. После отъезда Е. И. Украинцева и задолго до отправки царским двором на резиденцию посла с верительными грамотами в течение года в Стамбуле пребывали русские представители. Не имевшие дипломатического ранга С. Ф. Лаврецкий и Г. Юдин (затем М. Р. Ларионов) информировали Посольский приказ о политической ситуации в Османской империи, поддерживали контакты с представителями османского правительства, иерусалимским патриархом, агентами, «доброжелателями» и др. Выполняемые ими обязанности во многом соответствовали функциям посольского секретаря (временного поверенного в делах).
Список литературы "Ни в какие дела не вступаться": русские представители в Стамбуле в 1700-1701 годах
- Базарова Т. А. Русские дипломаты при османском дворе: Статейные списки П. П. Шафирова и М. Б. Шереметева 1711 и 1712 гг. (Исследование и тексты). СПб.: Историческая иллюстрация, 2016. 864 с.
- Богословский М. М. Петр I: Материалы для биографии. М.: Центрполиграф, 2007. Т. 5: Посольство Е. И. Украинцева в Константинополь: 1699-1700. 335 с.
- Орешкова С. Ф. Русско-турецкие отношения в начале XVIII в. М.: Наука, 1971. 205 с.
- Петросян Ю. А. Русские на берегах Босфора: Исторические очерки. СПб.: Петерб. востоковедение, 1998. 208 с.
- Серов Д. О. Администрация Петра I. 2-е изд., испр. и доп. М.: ОГИ, 2008. 291 с.
- Смирнов Н. А. Россия и Турция в XVI-XVII вв. М., 1946. Т. 1. 158 с.; Т. 2. 172 с.
- Теплов В. А. Русские представители в Царьграде в 1496-1891: Исторический очерк. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1891. 73 с.
- Фаизов С. Ф. Краткая статистика дипломатических миссий в русско-турецких взаимоотношениях XVI-XVII вв. // Фаизхановские чтения. 2007. № 4. URL: http://polpred.dumrf.ru/ books/materials/faizhanov/4/hist_faizov.htm? (дата обращения 28.03.2020).