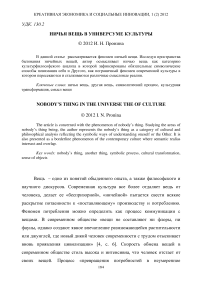Ничья вещь в универсуме культуры
Автор: Пронина Ирина Николаевна
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Семиотика вещи
Статья в выпуске: 1 (2), 2012 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается феномен ничьей вещи. Исследуя пространства бытования ничейных вещей, автор осмысливает ничью вещь как категорию культурфилософского анализа в которой зафиксированы обязательные символические способы понимания себя и Другого, как пограничный феномен современной культуры в котором пересекаются и сталкиваются различные смысловые реалии.
Ничья вещь, другая вещь, символический процесс, культурная трансформация, смысл вещи
Короткий адрес: https://sciup.org/14238907
IDR: 14238907 | УДК: 130.2
Текст научной статьи Ничья вещь в универсуме культуры
Вещь – одно из понятий обыденного опыта, а также философского и научного дискурсов. Современная культура все более отдаляет вещь от человека, делает ее «беспризорной», «ничейной» пытается свести всякое раскрытие потаенности к «поставляющему» производству и потреблению. Феномен потребления можно определить как процесс коммуникации с вещами. В современном обществе «вещи не составляют ни флоры, ни фауны, однако создают явное впечатление размножающейся растительности или джунглей, где новый дикий человек современности с трудом отыскивает вновь проявления цивилизации» [4, с. 6]. Скорость обмена вещей в современном обществе столь высока и интенсивна, что человек отстает от своих вещей. Процесс «превращения потребностей в неумеренное
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 1 (2) 2012 потребление» (Г. Маркузе) приводит к тому, что вещи функционируют в рамках концепции постоянной новизны и в режиме непрекращающегося ускорения. Общество потребления знаменует «гибель» вещи, ее разрушение и максимально быстрое завершение функционального цикла. «Произведенное сегодня произведено не с целью получить потребительную стоимость или иметь по возможности прочный продукт, оно произведено с целью его смерти, ускорение которой равно только инфляции цен», – отмечает Ж. Бодрийяр [4, с. 71]. Таким образом, «обрекая» общество на поиски идеальной вещи, чьи контуры изменчивы и непостоянны в калейдоскопическом пространстве моды, потребительская культура все дальше удаляет человека от процесса познания, созерцания вещей.
Сущность вещи, говоря словами М. Хайдеггера, – заключается в ее веществовании. «Вещественность вещи, однако, и не заключается в ее представленной предметности, и не поддается определению через предметность предмета вообще» [17, с. 439]. «Веществовать» значит оповещать о вещи, то есть преодолевать ее вещность, становиться элементом уже совсем иного пространства – не материально-вещественного, но идеально духовного. Таким образом, вещественность как потребляемость и «подручность» является в данном случае критерием истинности существования вещей: истинно то, что находится под рукой, имеет место в нашем жизненном проекте. Однако в современном мире вещь теряет свой голос в потребительском шуме, присвоение вещи в собственность обеззвучивает вещь до полной немоты. Сюжет такой вещи беден: выступая в качестве объекта собственности, она ни о чем не вещает, за ней ничего не стоит, кроме нее самой. «Мертвая вещь, имеющая только внешность, существующая только для другого и могущая быть раскрытой вся сплошь и до конца односторонним актом другого (познающего). Такая вещь, лишенная собственного неотчуждаемого и непотребляемого нутра, может быть только предметом практической заинтересованности. Второй предел –
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 1 (2) 2012 мысль о Боге, в присутствии Бога, диалог, вопрошание, молитва. Необходимость свободного самооткровения личности. Здесь есть внутреннее ядро, которое нельзя поглотить, потребить, где сохраняется всегда дистанция, в отношении которого возможно только чистое бескорыстие; открываясь для другого она всегда остается для себя», – пишет М. М. Бахтин [2, с. 227]. Культ потребления вытесняет на периферию такие модусы отношения к вещам как любовь, верность и доверительное общение. Размышляя о культе новизны, который пропагандирует потребительская культура, С. А. Лишаев полагает, что на смену традиционным обществам с присущим им культом тайны и глубины приходит «культ поверхности» и «поверхностной новизны» [7, с. 161]. Превращаясь в систему стандартизированных знаков, вещи лишаются секрета, тайны, сопряженных с духовной аурой вещи.
Быстрая смена вещей и их смыслов порождает целый пласт вещей, вышедших из поля внимания потребительской культуры. Одним из таких феноменов является ничья вещь. Вещь как любой материальный предмет, занимает определенное место в культуре, однако существуют вещи, не укладывающиеся в существующую систему. «Биография вещей полна событий… любая вещь, не соответствующая четким категориям, считается аномалией и изымается из обычного обращения, подвергается либо сакрализации, либо изоляции…», – пишет И. Копытофф [6, с. 165]. Согласно данной точке зрения ничья вещь представляет собой аномалию, феномен, находящийся вне общественной социальной структуры, в тоже время ничья вещь занимает определенное место в ее структуре. В категорию ничейности могут попадать самые разные вещи (старые, забытые, негодные, потерянные, наконец, просто бытовой мусор). В рамках данной статьи рассмотрим различные смыслы бытования ничейных вещей.
Мир вещей является условием и средством существования людей, все основные составляющие человеческой жизни находят соответствие в вещах, из них слагаются ситуации, поступки, взаимоотношения. Рассуждая о бытии вещи в произведениях Н. В. Гоголя, В. Н. Топоров пишет: «… Бог окликает человека как Отец. Вещь окликает его как дитя, нуждающееся в отце» [13]. Таким образом, вещь всегда аккумулирует в себе опыт Другого: она бытийствует, наличиствует и наделяется качествами «вещности» через обращенность к Другому, через обращенность к тому, кто ее хранит, созерцает, потребляет. В каждом предмете дремлет что-то «вещее», след или возможность какого-то человеческого свершения. Вещь как вестник Другого, Иного – необходимое условие ее познания.
«Предмет обращен вне себя, где он существует только в другом и для другого, причастен миру, где его изнутри себя самого нет» [2, с. 123]. Ничья вещь – это вещь без Другого . Ничей – «никому не принадлежащий» – находим у С. И. Ожегова [11, с. 380]. Ничья вещь не принадлежит никому, она находится вне режима обладания, за пределами существующей системы вещей . Система вещей строго иерархична: она способна наделять одни объекты особой ценностью, другие, – наоборот, «выталкивать» за границы своего существования.
Ничья вещь – это вещь, лишенная обладания. Владение, по мнению Ж.-П. Сартра, означает «быть у себя, т. е. быть собственной целью существования объекта» [12, с. 124]. Знак принадлежности сообщает дополнительную ценность предмету. «Обаяние ремесленной поделки возникает оттого, что она вышла из чьих-то рук и в ней запечатлен труд этого человека: это обаяние сотворенности… Так что стремление найти в произведении след творчества – будь то реальный отпечаток руки автора или же хотя бы его подпись – это тоже поиски собственных родовых корней…», – отмечает Ж. Бодрийяр [5, с. 86].
Ничья вещь может означать потерянность, забытость, т. е. ничейность . анонимность . Ничейность вещи несет потерю авторства, собственности, биографии, идентичности. Ничья вещь – это вещь без имени.
«Определенность вещи как Другого увязана с ее способностью вступать с человеком в диалог, представая носителем слова или самим словом, то есть она должна быть обращаема в смысл» [8, c. 27-29]. Давая определение чему-либо, мы уточняем контекст, очерчиваем и замыкаем смысловую сферу, максимально сужаем область употребления, а значит, накладываем семантические пределы, «определяем», показываем границы. Ничья вещь определяется через принципиальную неопределенность. Последнее качество к тому же усугубляется коннотативным оттенком пренебрежения: вещь безымянна, неудобоназываема, функционально сомнительна (неизвестно для чего служит).
Таким образом, все явственнее звучит хайдеггеровская тема «врученности вещи». Вещь должна быть подручна человеку, именно тогда событие вещи и событие человека взаимопринадлежат друг другу и составляют одно событие – событие мира. Ничья вещь обнаруживает «несобственность» своего существования.
Ничья вещь – это вещь, находящаяся за границами функциональности. В данную категорию могут попадать как ветхие вещи, исчерпавшие свою функцию и переходящие в разряд мусора, так и немодные вещи, утратившие свою «значимость» в символическом обмене. Ничья вещь – это ни–для–чего– не предназначенность. Такая вещь лишена инструментальности, «сподручности», наконец, это вещь – вне семантического контекста. Перемещение за пределы обжитого, присвоенного, «осмысленного» пространства отнимает у вещей смысл. Такая вещь исчезает не только из поля зрения бытия–для–себя, но и вообще исчезает, утрачивая свой онтологический статус.
Вещи, как и люди проживают жизнь в социуме и их продолжительная функциональность определяется социокультурным контекстом. Анализ продолжительности жизни вещи связан с установлением срока длительности ее использования – является ли скорость обмена вещей высокой или низкой.
В советской культуре вещи функционировали в режиме постоянного непрекращающегося потребления. В противовес современной потребительской культуре, в рамках которой потребление соотносится с разрушением вещи и с максимально быстрым завершением ее функционального цикла, потребление вещей в советской культуре сопровождалось бесконечным возвращением их к жизни. Вещи с готовностью принимают вторичные функции: стулья как столы, газеты как скатерть, окна, служащие в качестве холодильника и т. д. Даже окончательный выход вещи из строя, потеря первоначальных функций ведет не к «гибели» на свалке, а к превращению ее в вещь с другими функциями. Представление об «одноразовости» вещи практически отсутствовало, вещь постоянно совершенствовалась, подвергалась переделке. Данному аспекту бытования вещей посвящены работы Е. Герасимовой, О. Гуровой, Е. Деготь, Г. Орловой и др.
М. Хайдеггер связывает сущность вещи с ее присутствием . Ни–для– чего–не предназначенность проявляет себя в различных модусах присутствия вещей. Рассмотрим некоторые из них.
Старинная вещь по выражению Бодрийяра, имеет функцию «заколдовывать время». Старинная вещь совмещает два временных вектора – из настоящего в прошлое и из прошлого в настоящее – и заполняет тем самым пустое измерение бытия. Анализируя роман Ж. Перека «Вещи», Бодрийяр хотя и настаивает на том, что «вещевые джунгли» лишают реальность символической значимости и на месте былой интимности и интровертности семьи воздвигают пустоту и мнимость отношений, однако перечисляет целый ряд вещей, потенциально могущих заполнить эту пустоту. Это вещи «присутствия» или истории: очаг, старые фотографии, зеркала и т. п. Старинные вещи объективируют некое абстрактное прошлое, чужую жизнь, биографию. «Хранимые в музее древности, домашняя утварь…, принадлежат “прошедшему времени” и все же еще наличны в
“современности”…Они суть все еще употребительное средство – но вне употребления» [16, с. 378]. Если товар – это предмет производства и потребления, то старинные вещи – это предметы собирания и созерцания. В тоже время вошедшие в моду российского человека такие явления как барахолка, блошиный рынок отражают стремление к намеренному приобретению «чужих» вещей. Приобретение старинных вещей, антиквариата – это некая «присвоенность» чужой жизни, приобщение к прошлому, которое было прожито другим человеком. Здесь следует различать старую и старинную вещь. Старая вещь подлежит уничтожению или удалению из личной «своей» сферы, это вещь исчерпавшая свои функции, перешедшая в разряд ветхой или вещь, утратившая свой статус в процессе символического обмена, ставшая немодной.
Ветхая вещь – это вещь, не выполняющая свои утилитарные функции, вещь уже исполненная в своем бытии и еще не исполненная в своем не бытии. Феномен ветхой вещи детально проанализирован С. А. Лишаевым. Ветхое, согласно автору, выступает «чистым временем», ибо оно есть «бытие к концу». Ветхое показывает вещь в ее конечности. Взятая «с конца», на ущербе, ветхая вещь предстает со стороны о-граничивающей, гранящей ее неопределенность, со стороны не-бытия [7, с. 25].
Мусор можно определить как последнюю стадию жизни вещи. Утрачивая функцию ценности в культуре и социуме, вещь начинает выполнять функцию мусора, т. е. чего-то такого, что лишено практической значимости и связано с негативной оценочной маркировкой. По мнению Ф. В. Фуртай мусор – это вещь, «утратившая свое место, свою пространственную встроенность, выпавшая из космоса (и быта, и бытия), вещь, ставшая безразличной», а следовательно ничейной [см.: 15]. Мусор – социальное явление. У каждой культуры имеется свой «мусорный лик»: у всякой ментальной традиции есть своя технология производства и утилизации мусора. В современном обществе все большую активность набирают альтернативные практики потребления. Такие феномены как фриганизм, сквотинг, DIY, шоплифтинг являются классическими примерами выражения оппозиционных идеологем. Сознательный подход к потреблению как символическому отказу от общепринятых практик потребления является своего рода формой социального протеста и претендует на становление нового образа жизни.
Образы «своего» и «чужого» являются структурными элементами мира. Культура создает не только свою внутреннюю организацию, но и формирует свое «чужое», свой тип внешней дезорганизации, с которой она находится в состоянии активного обмена и напряженного противостояния. Вещь имеет свое имя и место в пространственной иерархии, из-за чего реальность не воспринимается чуждой. Ничье же не отмечено знаками «своего» культурного поля, это вещь, утратившая своего владельца, свое культурное пространство. Вещи, не выполняющие свои утилитарные функции, подлежат либо уничтожению, либо удалению из «своей», личной сферы.
Ничья вещь – пограничный феномен. Изучая советский коммунальный быт, И. В. Утехин отмечает, что в коммунальной квартире хлам находился на периферии жизненного пространства: в коридоре, пустой комнате и т. п. В тоже время, по замечанию автора, «коммунальные» вещи в силу товарного дефицита «свои» и «чьи-то» еще [14, с. 49–54]. Действительно, своего рода «почтение» перед хламом мы можем наблюдать в российской ментальной традиции, «вещь в России не обращается, исчерпав свою изначальную функцию, хранится на антресолях или чердаках, и даже выбрасывание означает лишь смену владельца» [1]. Поэтому чужое всегда может быть присвоено. Данное явление зачастую наблюдается и современном обществе: вещь в качестве мусора выбрасывается на улицу и там подбирается как полезная вещь. Таким образом, ничье чье-то еще .
В тоже время чужое всегда определяется как «не здесь». К примеру, «чужой» в интерпретации Ю. М. Лотмана - это «пришелец извне»; «враг»; «лишенный полноты общественных прав»; «находящийся на “нашей” территории, но принадлежащий какому-то иному миру, из которого он пришел» [9, с. 222]. Изгойничество означает исключенность из социальной иерархии или пространственно выраженной структуры . Ничья вещь пребывает в другой системе координат, это вещь вне дома, вне города, находящаяся «за чертой оседлости» (Н. А. Бердяев). «Пространственно такое положение связано с двумя моментами: уходом (переход в состояние изгойничества определяется разрывом с определенным местом проживания, освещенным традицией и закрепленным в культурном пространстве данного общества) и поселением в не-пространстве (в месте, в котором члены общины не селятся в силу определенных культурно-социальных запретов). В мифологическом осмыслении это создает параллель со смертью» [9, с. 227].
В современном контексте данный феномен связан с маргинальным пространством. Не-места (термин М. Оже), ничейные пространства, согласно автору, представляют собой места кратковременного и анонимного обитания, скоротечного прохода и проезда - метро, вокзалы, аэропорты, автострады, гостиничные номера, супермаркеты. Это пространства, лишенные символических проявлений идентичности, отношений и истории.
Ничья вещь лишена публичной сферы, однако она налична в своем «пока еще здесь присутствии». Чердаки, подвалы, свалки представляют собой так называемые «мусорные топосы», аккумулирующие целый пласт вещей вышедших из поля внимания человека и общества. Таким образом, ничья вещь являет себя в отказе от обжитого мира.
Пребывание в таких местах связано с бесследным существованием, незапоминанием, неизбежным и быстрым забвением. Помещение в не-пространство отнимает у вещей смысл. Вещь можно назвать вещью только потому, что она находится там, где она присутствует. Любая вещь, обладающая актуальным существованием, обнаруживает свойства, позволяющие опознать ее как присутствующую, Dasein, здесь в этом месте. Ничьи вещи помещены своего рода в экзистенциональный вакуум как возможный способ бытия.
Вместе с тем не только старые, ветхие вещи, утратившие свою функциональность, выпавшие из официального строя культуры воспринимаются как чуждые. Новая вещь также предстает в качестве чужой. Это обусловлено тем, что фактически новая вещь также существует в «ничейной зоне», она представляет собой лишь предмет, обладающий потребительскими качествами, но не вещь имеющую биографию, связывающую в один узел свою судьбу и судьбу человека, которому она служит. Новая вещь – неосвоенная вещь, а, следовательно, чужая вещь. Новая вещь как «чужак» входит в наш мир, и ей еще предстоит доказать принадлежность человеческому способу бытия и обрести внутри него свой смысл. «Не пережитость», неосвоенность вещи духовным опытом владельца оставляет вещь чужой.
С другой стороны, отсутствующая вещь может рассматриваться как существующая в другом месте, зыбкость и пустотность вещи такого рода предполагает ее многофункциональность. «Весь бесконечный вне-культурный, «дикий мир», – мир кануна культуры», – отмечает В. С. Библер [3, с. 12]. Подтверждение этого тезиса находим у М. Хайдеггера: «Граница – это не конец чего-то, граница, как это поняли греки, есть то, с чего начинается существование чего-либо» [18, с. 183]. Перемещаясь из одного пространства в другое, вещь обретает новое бытие. Однако чтобы обрести голос, вещь должна оказаться там, где она будет слышима, а таким местом для вещи зачастую может оказаться лишь искусство. «Вещи в пансемиотическом мире не терпят прагматических лакун и либо отправляются на свалку, либо начинают генерировать смыслы. Впрочем, свалка тоже может взорваться смыслами, недаром современное искусство так часто ее воспроизводит» [10, с. 102]. В произведениях современных художников (И. Кабакова, В. Архипова и др.) уже использованные вещи предстают как новая художественная целостность. Вещи включаются в пространство коллажей, инсталляций, перформансов. Все активнее в современное искусство вторгается тема мусора. Таким образом, вещь свершает переход из пространства смерти в пространство жизни художественного образа.
Итак, ничья вещь – пограничный феномен, в котором пересекаются и сталкиваются различные смысловые реалии. Пограничность означает беспринадлежность: ничья вещь имеет отношение к обоим мирам (своему) и (чужому), но не принадлежит ни одному из них. В то же время быть на границе, значит быть ничем, но если ты ничто, ты все, что угодно. Этим обстоятельством определяется способность ничьей вещи к генерированию новых смыслов. Принадлежа двум пространствам, ничья вещь совершает движение как внутрь, так и вовне. Ничья вещь обнаруживает свой онтологический характер через двоякую соотнесенность с бытием и небытием.
Список литературы Ничья вещь в универсуме культуры
- Базилева И. Суп из топора (о вещевом фольклоре В. Архипова) // Художественный журнал. 2001. № 34-35 [Электронный ресурс] // www.guelman. ru (дата обращения 23. 06. 2011).
- Бахтин М. М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. -СПб.: Азбука, 2000. -336 с.
- Библер В. С. От наукоучения -к логике культуры (Два философских введения в двадцать первый век). -М.: Издательство политической литературы, 1991. -254 с.
- Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. -М.: Республика, 2006. -269 с.
- Бодрийяр Ж. Система вещей. -М., 1995. -177 с.
- Копытофф И. Культурная биография вещей: товаризация как процесс//Социология вещей. Сборник статей/Под ред. В. Вахштайна. -М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. -392 с.
- Лишаев С. А. Старое и ветхое: Опыт философского истолкования. -СПб.: Алетейя, 2010. -208 с.
- Лола Г. Н. Дизайн. Опыт метафизической транскрипции. -М.: Изд-во МГУ, 1998. -264 с.
- Лотман Ю. М. «Изгой» и «изгойничество» как социально-психологическая позиция в русской культуре преимущественно допетровского периода//История и типология русской культуры. -СПб.: Искусство-СПб», 2002. С. 222-232.
- Мельникова-Григорьева Е. Г. Безделушка, или жертвоприношение простых вещей: Философически-семиотические заметки по пустякам. -М.: Новое литературное обозрение, 2008. -160 с.
- Ожегов С. И. Словарь русского языка. -М.: «Сов. Энциклопедия», 1973. -846 с.
- Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. -М.: АСТ Москва, 2009. -925 с.
- Топоров В. Н. Вещь в антропоцентрической перспективе [Электронный ресурс]//ecdéjàvu.ru (дата обращения 17. 05. 2011).
- Утехин И. В. Очерки коммунального быта. -М.:ОГИ, 2004. -277 с.
- Фуртай Ф. В. Мусор -от руин до свалки: аксиологические перспективы современной культуры//Международный журнал исследований культуры. 2011. № 1 (2). С. 48-56.
- Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. -СПб.: Наука, 2007. -621 с.
- Хайдеггер М. Бытие и время. -СПб.: Наука, 2006. -452 с.
- Хайдеггер М. Строить обитать мыслить//ПРОЕКТINTERNATIONAL 2008. № 20. С.176-189.