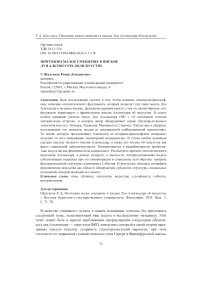Ничтожно малое смещение в письме Луи Альтюссера об искусстве
Автор: Шалганов Р.Д.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования состоит в том, чтобы показать социально-философское значение онтологического фундамента, который подводит под свою мысль Луи Альтюссер в позднем письме, продемонстрировав вместе с тем то, каким образом этот фундамент коррелирует с фрагментами письма Альтюссера об искусстве. В статье особое внимание уделено тексту Луи Альтюссера 1982 г. «О подземном течении материализма встречи», в котором автор обнаруживает серию близкородственных элементов мысли у Эпикура, Лукреция, Макиавелли, Спинозы, Хайдеггера и Деррида, истолковывая эти элементы исходя из имплицитной лейбницианской перспективы. Та линия, которую прослеживает Альтюссер на историко-философском материале, получает от него именование «алеаторный материализм». В статье особое внимание уделено анализу позднего письма Альтюссера, а также его письму об искусстве как факте социальной действительности. Подчеркивается и разрабатывается проблематика искусства как феномена поля социального. Рассмотрен горизонт онтологического прочтения Альтюссера, в рамках которого, в частности, интерпелляционная модель субъективации индивида при его инкорпорации в социальное тело обретает значение фундаментальной структуры алеаторного События. В результате показана специфика произведения искусства как области обнаружения субъектом структуры социальных отношений, воспроизводящей его самого.
Атом, идеология, искусство, случайность, событие, интерпелляция
Короткий адрес: https://sciup.org/148329886
IDR: 148329886 | УДК: 101.1:316 | DOI: 10.18101/1994-0866-2024-3-71-78
Текст научной статьи Ничтожно малое смещение в письме Луи Альтюссера об искусстве
Шалганов Р. Д. Ничтожно малое смещение в письме Луи Альтюссера об искусстве // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2024. Вып. 3. С. 71–78.
В качестве отправного пункта в нашем изложении хотелось бы предложить следующий тезис, моделирующий наш подход к исследуемому материалу. Этот тезис может быть в первом приближении сформулирован следующим образом: есть два Альтюссера — один член ФКП, коммунист, который в своей теории предпринял смелую попытку сохранить структуралистский марксизм, при этом отстояв его от марксизма гуманистического типа Сартра и Франкфуртской школы, и с другой стороны, отвернувшись от догматического марксизма коммунистических партий мира. Этот Альтюссер стоит в паре с Макиавелли. Второй Альтюссер — верующий, католик, мучимый тяжелой депрессией. Первый Альтюссер в полной мере раскрывается в раннем письме. К периоду под таким условным наименованием мы можем отнести 1960-е и начало 1970-х гг. «Читать Капитал», «Ленин и философия», «За Маркса» — все эти тексты так или иначе контекстуально оказываются связанными с полем политической проблематики в различных аспектах значения термина «политика». Однако помимо непосредственно политической проблематики в этих же текстах мы можем обнаружить и эпистемологические построения и вместе с тем даже некоторую онтологическую глубину, которая в ранних текстах, в первую очередь, свойственна для краткого эссе «Ленин и философия». В позднем письме Альтюссер сосредоточивается на том, что нам хотелось бы обозначить как «онтологическое основание» марксистской мысли.
Атомы и пустота
Так, в частности, в тексте «О подземной материалистической традиции встречи» [1, с. 539–581] Альтюссер вводит понятие «алеаторный материализм». Так он обозначает эту самую философскую традицию, которая может быть обнаружена в текстах Лукреция, Эпикура, Спинозы, Маккиавелли, Гоббса, Руссо, Хайдеггера и Деррида. Здесь нам хотелось бы в общих чертах описать специфические черты этой традиции.
Первым понятием, которое Альтюссер вводит на страницах указанного текста, оказывается «дождь» [1, с. 539]. Сам по себе дождь представляет поток частиц, падающих параллельными курсами в пустоте. Этот дождь, пишет Альтюссер, впервые встречает нас у Лукреция — Эпикура и является центральной метафорой картины мира, которую автор называет «материалистической» [1, с. 540].
В центре этой картины мира находится вторая важная фигура — мельчайшая неделимая частица, атом как единичная простая субстанция. Альтюссер описывает древнюю материалистическую картину, в которой над такими простыми неделимыми субстанциями владычествуют две тенденции — необходимость и случайность. Необходимость предписывает атомам строго прямые траектории, которые исключают их столкновение или встречу [1, с. 540]. В своем «исходном» состоянии мир представляет собой бесконечный дождь непересекающихся атомов в пустоте и это его состояние фактически соответствует небытию . Мир, прежде чем в нем случится невозможная встреча, не есть. Альтюссер называет это состояние мира «фантомным» [1, с. 541]. Для того чтобы впервые стать миру, оказывается, необходимо вторжение случайности, которая одна лишь способна внести некоторое искажение в стройные ряды атомов. Это искажение носит имя clinamen [1, с. 540].
Какова природа этого искажения? Природа его состоит в отклонении атома от предначертанной ему путями необходимости траектории в пустоте. Здесь необходимо отметить ключевую характеристику этого отклонения, которая состоит в том, что само по себе оно ничтожно мало [1, с. 541]. Ничтожно малое отклонение происходит внутри инертного атомарного газа практически незаметно само по себе, поначалу его почти что и вовсе нет. Однако чем дальше развиваются события, тем дальше от необходимого уклоняется атом, приближаясь к атомам-соседям. Именно ничтожно малое отклонение делает возможным встречу атомов и как следствие становление мира как «свершившийся факт» [1, с. 542].
Что происходит с атомами, когда они сближаются? Они вступают в отношения, формируя «агрегат» [1, с. 541]. Сам по себе термин «агрегат», как нам кажется, Альтюссер заимствует у Лейбница. В самом начале «Монадологии», во втором тезисе, Лейбниц, говоря о сложных субстанциях, указывает на тот факт, что каждая из них сложена из простых в агрегат [2, с. 161]. Внутри скопления атомы состоят в некоторых отношениях между собой, которые возникают и исчезают как эффекты их взаимного приближения и отдаления. При этом атомы, и это верно как для Лейбница, так и для Альтюссера, никогда не соприкасаются своими поверхностями — между ними всегда пролегает пустота κενο, необходимая для того, чтобы все множество индивидуальных атомарных субстанций не «слиплось» в единую субстанцию Спинозы. Здесь мы обнаруживаем еще одну черту, которая позволяет нам охарактеризовать Альтюссера как лейбницианца, во всяком случае, в той мере, в которой он избирает лейбницианскую посткартезианскую парадигму, отказываясь от субстанциального монизма.
Сближение атомов и их бытие агрегатом для Альтюссера оказываются фундаментальным онтологическим фактом, который содержит в себе три степени, во-первых, собственно отклонение, clinamen, во-вторых, сближение и, в-третьих, схватывание. Эти три степени представляют собой три стадии «совершения факта». Первая состоит в онтологизирующем фантомное облако атомов ничтожно малом проблеске случайности. Вторая являет себя как следствие отклонения, изменение траектории атома становится все заметнее, он сам прочерчивает себе путь сквозь пустоту, которая сама здесь оказывается еще более глубоким онтологическим условием. Если первые две стадии только предуготовляют встречу атомов, то на третьей стадии она наконец происходит. О самом характере этой встречи Альтюссер говорит как о «схватывании». «Как схватывается лед на поверхности озера...» [1, с. 542], так схватываются в отношенческой структуре вещества атомы, собираясь в агрегат. При этом важно отметить, что схватывание атомов не происходит раз и навсегда. Встреча — это событие. При этом событие мгновенное. Встретившиеся атомы могут тут же разлететься, не схватившись. В свою очередь, схватившиеся между собой атомы продолжают свое движение в регистре удержанной встречи, до тех пор, пока агрегат не распадется под действием тех же сил, которые его сформировали.
Здесь нам также необходимо указать на ту фигуру в мысли Хайдеггера, который оказывается наиболее примечательным с точки зрения Альтюссера. Такой фигурой оказывается es gibt [1, с. 541]. Альтюссер пишет: «Философия es gibt, «это то, что дано», позволяет отбросить все классические вопросы о Начале и так далее» [1, с. 541]. Отбрасывание классических вопросов о Начале, вот что привлекает Альтюссера в Хайдеггере. Эта фигура дает возможность помыслить Событие, которое каждый раз оказывается событием смысла, которое вместе с тем вовлекает в себя и одновременно требует к себе индивида, который станет для этого события участником.
Атомистический взгляд на идеологию
Выше мы описали основные узлы античного учения об атомах в том виде, который им придает Альтюссер. Далее нам необходимо показать то, каким образом эта схема применяется Альтюссером для описания поля социального.
В качестве атомов поля социального выступают индивиды, которые никогда не даны нам «в чистом виде». Индивид существует как своего рода носитель определенной субъектности, которая присваивается ему в результате процесса субъекти-вации в рамках того или иного из «аппаратов государства» [3]. Свою субъектность индивид получает от Субъекта того аппарата, в который он намерен инкорпорироваться. Сами по себе аппараты представляют ничто иное, как социальные агрегаты из субъективированных индивидов, которые действуют так или иначе повинуясь закону необходимости и в действия которых порой вкрадывается ничтожно малое отклонение, результирующееся в рекомпозиции существующих агрегатов или в появлении новых.
Однако само по себе поле социального дано нам через призму идеологии, которая фактически является языком описания окружающей нас действительности и как следствие составляет для индивида эту самую действительность как таковую. Что делает индивида субъектом? Индивида субъектом делает не только его ответ на оклик, обращенный в пустоту со стороны Субъекта, но и на более фундаментальном уровне сама способность быть окликнутым и отозваться, которая коренится в способности оперировать знаками. Знаки сами по себе, вместе с теми или иными их значениями представляют атомы поля идеологии, их агрегаты составляют те или иные конкретные идеологии.
Перспектива, которую задает нам алеаторный материализм, позволяет совместить в рамках исследовательской оптики те или иные «оригинальные» онтотеологии или «монолитные дискурсы», «идеологии», объяснив их как эпифеномены определенной действительности, которая сама в себе несет зерно постоянно воспроизводящейся случайности.
Клинамен рождает ограниченный космос. У любой рамки нашего конкретного анализа конкретных обстоятельств всегда будет определенный метауровень. Иными словами, метаполе случайности встречи, пустота, разделяющая индивидуальные, монадические онтомикрокосмы, гарантирует множественность таких «оригинальных миров», каждый из которых руководствуется собственной внутренней логикой. Альтюссер интерпретирует одиннадцатый тезис о Фейербахе как призыв в ненужный момент обратить внимание на то, что мы делаем, когда мы что-то делаем. Именно вопрос о воспроизводстве, результирующийся точкой зрения воспроизводства, с которой нам открывается вид на мир под углом «истории без субъекта», становится одним из наиболее важных поводов для Альтюссера к разработке собственной линии внутри своеобразного теолого-политического контекста эпохи.
Однако природа самой этой социальной действительности должна быть прежде всего помыслена достаточно тонко, во избежание уклонения в ту или иную форму так или иначе рационализированного детерминизма, сциентического, религиозного, догматического или иного. Мысль Альтюссера демонстрирует нам постоянно самообновляющееся начало, которое ищет выражения в языке теории, ставшей для мира набором догматов.
Встреча с идеологией как таковой
Индивид рождается в определенных условиях. Эти условия подводят его к субъ-ективации, которая начинает происходить с ним, практически с первых минут жизни. Между делом заметим, что вопрос о частоте актов субъективации самим Альтюссером не рассматривается, что дает нам право предположить множественность подобных актов, которые совершаются над телом индивида так часто, как только он вступает в контакт с другими. В самом деле, если ты не субъектен, как ты можешь обращаться к другому, который, по определению, обладает субъектностью? Возвращаясь к нашему сюжету, необходимо подчеркнуть, что одним из наиболее важных условий, в которых обретает себя конкретный субъект, является идеологический комплекс, который воспроизводится на мощностях тех аппаратов, которым индивид вверяет себя и свое тело. При этом идеологическая машинерия до определенного момента скрывается от взгляда самого индивида.
Идеология как таковая, прежде чем она будет обнаружена субъектом в качестве структуры и границ его восприятия и оценки реальности, самому субъекту не дана. Она существует как набор ограничений его мысли, при этом как такой набор, само существование которого скрыто от субъекта. Иными словами, от машинерии идеологии субъекта отделяет плотный покров двойного забвения. Если выразить психоаналитическими терминами, то идеологическая машинерия как часть комплекса бессознательных механизмов сама по себе оказывается вытеснена до всякого вытеснения.
Это скрытное существование идеологической машинерии фактически соответствует маскирующемуся поведению идеологии, которое мы встречаем, например, в письме Ролана Барта [4]. Согласно этому тезису идеология маскируется под естественное свойство вещей, иначе говоря, под не подлежащий сомнению закон природы, очевидность которого в пределах доксического регистра не может быть поставлена под сомнение.
Если идеология искусно маскируется под природное, предзадавая те смыслы, которые мы извлекаем из вещей мира и даже до определенной степени облик самого этого мира, то как же можем мы отличить идеологическую компоненту в нашем мышлении от неидеологической? Точных критериев, руководствуясь которыми возможно отличить идеологически опосредованный тезис от тезиса идеологически нейтрального Альтюссер своим читателям не предлагает. И та причина, которая принуждает его отказаться от выведения такого критерия радикально противопоставляет Альтюссера многим его коллегам и соратникам по марксистскому лагерю. Дело в том, что из идеологии нет выхода [3]. Это утверждение знаменует собой одно из главных нововведений Альтюссера — отказ от придания марксистской мысли статуса единственно верной научной исследовательской программы.
Идеология понимается в классическом марксизме как иллюзия, призванная скрыть единственную истину — истину эксплуатации одного класса другим через извлечение прибавочной стоимости [5, с. 84]. Единственный метод избавления от иллюзии и восстановления контакта с реальностью как она есть видится классическому марксизму в нем самом — только марксистская теория, опирающаяся на диалектику, способна раскрыть угнетенным глаза на истину их угнетенности, превыше каковой истины нет вовсе. Так или иначе такой подход замыкает марксистскую мысль в тех же границах, которые были свойственны и всякой другой мысли до него, а именно в границах вопроса о Начале, иерархизируя мировоззрения по критерию их соответствия реальному положению дел и тем самым утверждая превосходство одной картины мира над всеми прочими. Альтюссер решается на радикальный ход — отказать марксистской теории в праве на доступ к конечной действительности. Из идеологии нет выхода, что означает, что вне поля идеологии невозможна никакая мысль, то есть всякая мысль уже идеологична постольку, поскольку она есть мысль.
Что же может предложить, с точки зрения Альтюссера, марксистская теория и истолкованная в духе этой теории художественная практика? Они могут предложить чувство . Альтюссер утверждает, что хотя из идеологии и невозможно выйти, мы все-таки способны как минимум почувствовать ее, иными словами, мы способны встретить в своем опыте идеологическую машинерию как то, что нам непосредственно дано. Той средой, которая способна сообщить нам, субъектам, чувство идеологии, является искусство.
Для настоящего изложения наиболее актуальным текстом Альтюссера, из посвященных искусству оказывается статья, озаглавленная «О Брехте и Марксе» [6]. Именно в ней Альтюссер говорит о смещении как о художественном приеме, равно как и о тех эффектах, которые он способен оказать на субъекта.
Что такое «смещение» в искусстве? В первую очередь, это определенный ход мысли, который воплощается в нескольких конкретных приемах. Применительно к Брехтовскому театру Альтюссер говорит о трех смещениях — смещении актерской игры, концепции пьесы как жанра и принципов восприятия театра в целом. Эти три смещения имеют своей целью один центральный предмет — производство в зрителе эффекта отстранения от идеологии.
Предъявляя нам некоторое определенное идеологическое содержание, произведение искусства вместе с тем способно оказывать на нас двунаправленное воздействие — с одной стороны, оно способно подкреплять нашу убежденность в правоте нашего взгляда на мир, иначе говоря, оно способно поддерживать наши идеологические шоры, не давая нам понятия о том, что они есть такое и что они в целом есть. Такой театр и такое искусство вслед за Брехтом Альтюссер называет «кулинарным» [6, с. 30]. Однако помимо подпитывания идеологии искусство способно и сталкивать нас с ней. Идеалом такого искусства для Альтюссера оказывается Брехтовский театр, и именно в силу того, что в нем Альтюссер усматривает триаду смещений, реализованных как приемы, которые позволяют добиться смещения оптики зрителя по отношению к усвоенной им или взрастившей его идеологии.
В то же самое время, имея в виду онтологический аспект мысли о смещении в целом, мы можем истолковать смещенное зрелище как повод для субъекта начать по-настоящему быть. Невозможно пробудиться от сна идеологии, однако, осознав природу сновидения, возможно встать по отношению к нему в некоторую конкретную позицию. Смещение оптики зрительского восприятия по отношению к родной для него идеологической матрице имеет своей целью понимание субъектом ограниченности собственного восприятия и знания. Именно с этой границей как таковой сталкивается субъект, когда ему предлагают субверсированное зрелище.
Заключение
Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Во-первых, идеология мыслится Альтюссером как избегающая своей тематизации тотальность, в которой и только в которой существуют социальные отношения. Во-вторых, способ данности субъекту этих социальных отношений различен, искусство, использующее «смещение» как прием, способно предложить субъекту впервые встретиться с идеологией как таковой. В-третьих, этот жест не может иметь своей целью выход субъекта из поля идеологического, однако способен дать субъекту почувствовать свои собственные границы как границы собственного мира, то есть дать субъекту новое ощущение своего положения в структуре общественных отношений. В-четвертых, именно эта граница оказывается центральным структурным элементом искусства как практики, воспроизводимой субъектами в среде социального и в то же время формирующей эту среду.
В качестве перспектив дальнейшего исследования заявленной проблематики можно назвать разработку смежных полей художественной теории — феноменологии и психоанализа — в целях обнаружения точек их соприкосновения. Такое исследование позволит более полно представить механику действия произведения искусства в отношении восприятия субъектом системы отношений в мире вокруг него.
Список литературы Ничтожно малое смещение в письме Луи Альтюссера об искусстве
- Althusser L. Le courant souterrain du materialisme de la rencontre. Ecrit philosophiques etpolitiques, T. 1, Edition STOC/IMEC, 1994, 591 p.
- Лейбниц Г. В. Монадология / перевод с французского В. П. Преображенского, Ю. П. Бартнева; вступительная статья А. В. Маркова. Москва: РИПОЛ классик, 2020. 200 с. (Librarium). Текст: непосредственный.
- Идеология и идеологические аппараты государства (заметки для исследования) / перевод с французского Сергея Рындина, научная редакция Ильи Калинина и Владислава Софронова // Неприкосновенный запас. 2011. № 3. URL: https://magazines.gorky.media/nz/2011/3/ideologiya-i-ideologicheskie-apparaty-gosudarstva.html (дата обращения: 04.05.2024). Текст: электронный.
- Барт Р. Мифологии / перевод с французского, вступительная статья и комментарии С. Зенкина. Москва: Акад. проект, 2008. 351 с. Текст: непосредственный.
- Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Изд. 2. Москва: Издательство политической литературы, 1965. Т. 39. Текст: непосредственный.
- Альтюссер Л. О Брехте и Марксе // Об искусстве. Москва: V-A-C press; Artguide Editions, 2019. С. 28-43. Текст: непосредственный.