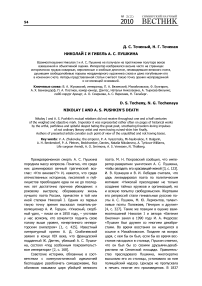Николай I и гибель А. С. Пушкина
Автор: Точеный Дмитрий Степанович, Точеная Наталья Григорьевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 2 (2), 2010 года.
Бесплатный доступ
Взаимоотношения Николая I и А. С. Пушкина не получали на протяжении полутора веков взвешенной и объективной оценки. Император изображался весьма часто на страницах исторических трудов коварным, вероломным и злобным деспотом, ненавидевшим великого поэта, душившим свободолюбивые порывы неординарного художника слова и даже погубившим его в конечном счете. Авторы представленной статьи считают такую точку зрения неоправданной и не имеющей оснований.
В. а. жуковский, император, п. а. вяземский, михайловское, ф. булгарин, а. х. бенкендорф, п. а. плетнев, камер-юнкер, дантес, наталья николаевна, а. тыркова-вильямс, лейб-хирург арендт, а. о. смирнова, а. с. вересаев, н. тальберг
Короткий адрес: https://sciup.org/14113543
IDR: 14113543
Текст научной статьи Николай I и гибель А. С. Пушкина
Преждевременная смерть А. С. Пушкина породила массу вопросов. Понятно, что среди них доминировал вечный трагический возглас: «Кто виноват?!» И, кажется, что среди отечественных историков, писателей и публицистов преобладало едва ли не до последних лет достаточно прочное убеждение: к роковому выстрелу, оборвавшему жизнь лучшего поэта России, причастен в той или иной степени Николай I. Одним из первых такую точку зрения высказал писатель-революционер А. И. Герцен. «Ужасный, скорбный удел, – писал он в 1850 году, – уготован у нас всякому, кто осмелится поднять свою голову выше уровня, начертанного императорским скипетром» [1, с. 425]. Известный литературный критик А. Д. Скабичевский заявил в конце XIX века, что французский подданный Ж. Дантес, убивший А. С. Пушкина, состоял «под особенным покровительством императора» [2, с. 168].
Советские историки, обязанные в соответствии с коммунистической идеологией беспощадно разоблачать самодержавие, без обиняков называли царя убийцей великого поэта. М. Н. Покровский сообщил, что император-развратник уничтожил А. С. Пушкина, чтобы овладеть его красавицей-женой [3, с. 123]. И. В. Кузнецов и В. И. Лебедев считали, что царь ликвидировал поэта по политическим мотивам: «Николай преследовал не только создание тайных кружков и организаций, но и всякую попытку свободомыслия. Жертвами его репрессий стали гениальные русские поэты А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, талантливые поэты Полежаев, Печерин и другие» [4, с. 327]. Такие же позиции в оценке взаимоотношений Николая I и автора «Евгения Онегина» занял в 1990 году И. А. Федосов: «Пушкин был дружен со многими декабристами. Во время восстания он находился в ссылке в Михайловском. Позднее на вопрос царя, с кем бы он был, если бы во время восстания находился в столице, Пушкин ответил, что он был бы со своими друзьями-декабристами на Сенатской площади. Правительство преследовало Пушкина, многократно высылало его из столицы, установило за ним полицейский надзор. Цензура не пропускала в печать многие его произведения. В 1837
году Пушкин погиб на дуэли. В смерти поэта было повинно высшее общество, травившее его, и прежде всего сам царь» [5, с. 96]. Е. А. Анисимов и А. Б. Каменский уже в постсоветский период высказали предположение, что трагическим фактом в биографии великого поэта стало вмешательство Николая I в цензурирование его произведений [6, с. 404]. Убеждение историков в виновности самодержца в гибели А. С. Пушкина проникло и в умы многих отечественных писателей [7].
…Узнав о событиях 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, А. С. Пушкин всерьез встревожился. Сначала было он решился ехать в Петербург, но раздумал и остался в с. Михайловском. А получив известие об арестах своих друзей в столице, поэт в срочном порядке уничтожил наиболее компрометирующие его стихи и дневниковые записи. В смятении провел Александр Сергеевич долгие и тяжелые дни января-февраля 1826 года; наконец, не выдержал и решил прозондировать почву, отправив 7 марта письмо влиятельному при дворе поэту В. А. Жуковскому: «Вступление на престол государя Николая Павловича подает мне радостную надежду. Может быть, его величеству будет угодно переменить мою судьбу. Каков бы ни был мой образ мыслей, я храню его про себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости» [8, с. 273].
Ответ В. А. Жуковского от 12 апреля не мог успокоить А. С. Пушкина: «Ты ни в чем не замешан, это правда. Но в бумагах каждого из действовавших [т. е. декабристов] находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством… Не просись в Петербург. Еще не время» [8, с. 274].
Поэт попытался следовать совету В. А. Жуковского, но потом, устав от неопределенности, напрямую обратился к Николаю I. 11 мая 1826 года он отправил царю официальное прошение: «Всемилостивейший государь! В 1824 году, имев несчастие заслужить гнев покойного императора Александра I, я был выключен из службы и сослан в деревню, где и нахожусь под надзором губернского начальства. Ныне с надеждой на великодушие Вашего императорского величества, с истинным раскаянием решился я прибегнуть со всеподданнейшей моею просьбою: здоровье мое, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чем и представляя свидетельства медиков, осмеливаюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие края» [8, с. 275].
Конечно, в письме А. С. Пушкина к императору сквозило лукавство: не хвори беспокоили поэта (он был практически здоров), его волновал вопрос: не грозит ли ему наказание за дружеские отношения со многими декабристами, за вольнолюбивые стихи, в которых звучал призыв к борьбе с тиранией и самодержавием. 10 июля 1826 года поэт признался своему другу, князю П. А. Вяземскому: «Я писал царю тотчас по окончании следствия. Жду ответа, но плохо надеюсь. Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем... Кажется, это не к добру» [8, с. 274].
Прошло еще два томительных месяца. 3 сентября 1826 года псковский губернатор фон Адеркас направил А. С. Пушкину в Михайловское короткую записку: «Сейчас получил я прямо из Москвы с нарочным фельдъегерем высочайшее разрешение по всеподданнейшему прошению вашему… Прошу вас поспешить приехать сюда и прибыть ко мне» [8, с. 276]. Поздним вечером того же дня жандармский офицер прискакал с указанным распоряжением к дому поэта, который в это время грелся у печки. Фельдъегерь приказал Пушкину сейчас же собраться с ним в дорогу. Александр Сергеевич в смятении успел только взять деньги и накинуть длиннополый сюртук: он не сомневался, что его увезут «прямо в Сибирь» [8, с. 288].
За четыре дня Пушкин в сопровождении фельдъегеря преодолел около 700 верст, а 8 сентября в дорожном костюме его в карете доставили в царскую резиденцию в Москве – Чудов монастырь. О том, что произошло дальше, рассказал сам Александр Сергеевич: «Всего покрытого грязью, меня ввели в кабинет императора, который мне сказал:
– Здравствуй, Пушкин, доволен ли ты своим возвращением?
Я отвечал, как следовало. Государь долго говорил со мною, потом спросил:
– Пушкин, принял ли бы ты участие в 14 декабря, если бы был в Петербурге?
– Непременно, государь, все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участво- вать в нем. Одно лишь отсутствие спасло меня, за что я благодарю Бога!
– Довольно ты подурачился, – сказал строго император, – надеюсь, теперь будешь рассудителен, и мы более ссориться не будем. Ты будешь присылать все, что сочинишь; отныне я сам буду твоим цензором» [8, с. 288].
По окончании двухчасового разговора император взял поэта за руку, вывел в смежную комнату, наполненную царедворцами, и сказал: «Господа, вот вам новый Пушкин, о старом забудем» [8, с. 288].
По свидетельству придворных, поэт вышел из кабинета государя со слезами на глазах, бодрым, веселым и счастливым.
В тот же день на балу у французского посла Николай I задал неожиданный вопрос статс-секретарю Д. Н. Блудову:
«– Знаешь, что я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России?
– С кем же, Ваше Величество?
– С Пушкиным» [8, с. 293].
Великий поэт по достоинству оценил великодушие Николая I. Об этом он написал в 1828 году в стихотворении «Друзьям»:
Текла в изгнанье жизнь моя, Влачил я с милыми разлуку, Но он мне царственную руку Простер – и с вами снова я.
Во мне почтил он вдохновенье, Освободил он мысль мою, И я ль, в сердечном умиленье, Ему хвалы не воспою.
А. С. Пушкин отослал стихотворение царю и вскоре получил ответ через шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа: «Государь Император изволил повелеть мне объявить Вам, Милостивый государь, что он с большим удовольствием читал шестую главу «Евгения Онегина». Что касается стихотворения Вашего под заглавием «Друзьям», то Его Величество совершенно довольно им, но не желает, чтобы оно было напечатано» [9, с. 699]. Ничего не скажешь, царь продемонстрировал в этом эпизоде редкую скромность для государственного деятеля.
Очевидно, император высоко оценивал художественный дар Александра Сергеевича. Вникая в бесчисленные государственные дела, Николай I тем не менее успевал достаточно внимательно следить за литературной жизнью столицы и ограждать при необходи- мости великого поэта от нападок клеветников и завистников. Так, 22 марта 1830 года царь прочитал в «Северной пчеле» отзыв Ф. Булгарина о седьмой главе «Евгения Онегина» и тут же продиктовал шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу следующее письмо: «В сегодняшнем номере «Пчелы» находится опять несправедливейшая и пошлейшая статья против Пушкина. Предлагаю вам призвать Булгарина и запретить ему отныне печатать какие бы то ни были критики на литературные произведения; если возможно, следует запретить журнал» [10, с. 391].
Спустя год император вновь протянул поэту руку помощи: А. С. Пушкин женился на Н. Н. Гончаровой и получил от государя весьма нужный свадебный подарок – назначение придворным историографом с поручением написать биографию Петра I. По этому поводу Александр Сергеевич 22 июля 1831 года написал литературному критику П. А. Плетневу: «Царь взял меня на службу – но не в канцелярскую, или придворную, или военную – нет, он дал мне жалование, открыл мне архивы, с тем, чтоб я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли? Он сказал: «Раз он женат и небогат, то надо дать ему средства к жизни». Ей-богу, он очень со мною мил» [11, с. 54]. Жалование А. С. Пушкину было установлено весьма приличное – 5000 рублей в год. (В архиве поэт появился только в 1833 году, а историю Петра он так и не написал.)
Доброжелательное отношение Николая I к великому поэту отмечалось и иностранцами, посещавшими Петербург. 27 февраля 1834 года корреспондент «Франкфуртского журнала» сообщал из столицы России: «Пушкина часто видят при дворе, причем он пользуется милостью и благоволением своего государя» [12, с. 328]. Европейский журналист не ошибся в своем заключении. Сам факт частых прямых и косвенных контактов царя и поэта говорил о многом. Так, 28 февраля 1834 года А. С. Пушкин отметил в своем дневнике: «Я представился. Государь позволил мне напечатать «Пугачева»; мне возвращена моя рукопись с его замечаниями (очень дельными).
В воскресенье на бале, в концертной, государь долго со мной разговаривал; он говорит очень хорошо, не смешивая обоих языков».
6 марта 1834 года поэт опять вспоминает об императоре: «Царь дал мне взаймы 20 000 на напечатание «Пугачева». Спасибо!» [12, с. 319].
16 марта Николай I предложил Пушкину переименовать «Историю Пугачева» и, с согласия автора, собственноручно написал: «История пугачевского бунта».
Иногда поэт, имея на то причины, сердился на императора. Например, весной 1834 года Александр Сергеевич узнал, что его письмо к жене было распечатано на почте, скопировано и доставлено царю. Он выплеснул понятное и оправданное раздражение на страницы своего дневника: «Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться – и давать ход интриге… Что ни говори, мудрено быть самодержавным» [12, с. 331].
Явно не обрадовало поэта решение императора о пожаловании ему камер-юнкерства. Николай I сделал это из лучших побуждений. Этот младший чин не только давал возможность, но и обязывал А. С. Пушкина участвовать во всех церемониальных торжествах и балах. Конечно, у любого представителя петербуржской знати такое исключительное право вызывало ликование: ведь общение с сильными мира сего – это путь к успешной карьере. Поэта же царский указ расстроил. Он написал 1 января 1834 года в дневнике: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам)» [12, с. 331]. 5 декабря он вновь вернулся к этой неприятной теме: «Завтра надобно будет явиться во дворец. У меня еще нет мундира. Ни за что не поеду представляться с моими товарищами камер-юнкерами, 18-летними молокососами. Царь рассердится, – да что мне делать?» [12, с. 336].
Переживания в связи с просмотром писем и необходимостью присутствия на бесконечных церемониях вместе с безусыми юношами усугублялись у А. С. Пушкина в связи с тем, что природа наделила его такой чертой характера, как ревность: поэту казалось, что Николай I ухаживает за его женой Натальей Николаевной. «Не кокетничай с царем», – предупреждал он ее [13, с. 52]. Между тем подозрения Александра Сергеевича были бо- лее чем беспричинными. Такое заключение сделала А. Тыркова-Вильямс в своем фундаментальном труде, посвященном великому поэту: «Никто из недругов Пушкина, никто из многочисленных последователей никогда не обмолвился ни словом, не напал ни на какие данные о связи Натальи Николаевны с царем. Об этом не говорит ни один из многочисленных врагов Николая I, ни один из недоброжелателей поэта, так охотно возводивших на него всякие поклепы» [10, с. 427].
Еще более ужасными стали у А. С. Пушкина муки ревности, когда его жене стал открыто оказывать знаки внимания красивый, ловкий и вкрадчивый француз Дантес. В высшем обществе поползли слухи о возможности поединка. Встревоженный таким ходом событий, Николай I пригласил в конце 1836 года на аудиенцию поэта и взял с него слово, что он не приступит к дуэли, не дав ему знать наперед» [14, с. 470]. Тогда же царь встретился с Натальей Николаевной и посоветовал ей «быть сколь можно осторожнее и беречь свою репутацию и для самой себя, и для счастья мужа, при известной его ревности». О разговоре с императором она сообщила своему супругу, что в высшей степени его обрадовало. Александр Сергеевич тут же на одном из балов выразил признательность Николаю I за добрые советы жене.
«– Разве ты мог ожидать от меня другого? – удивился государь.
– Не только мог, – ответил поэт, – но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моею женою» [14, с. 470].
По размышлении Николай I пришел к выводу, что для предотвращения возможной дуэли одних нравоучительных сентенций и внушений чете Пушкиных недостаточно, и приказал шефу жандармов Бенкендорфу принять меры, чтобы пресечь возможность поединка. Ему же император поручил выявить автора анонимных писем, порочивших репутацию поэта [15, с. 604].
К сожалению, как сейчас бы сказали, события вышли из-под контроля императора. А. С. Пушкин вызвал на дуэль Дантеса, однако не известил об этом царя: поэт написал соответствующее письмо Николаю I, но не отправил его адресату, руководствуясь ложными соображениями чести. Оно осталось в кармане его сюртука. Бенкендорф же на- правил жандармов на предполагаемое место дуэли, но поединок состоялся в другом районе.
Услышав от князя Волконского о тяжелом ранении А. С. Пушкина, император отправил к поэту своего личного доктора, лейб-хирурга Арендта, а потом вызвал к себе Бенкендорфа и рассерженно произнес:
«– Я знаю, полиция не исполнила своего долга.
Шеф жандармов попытался оправдаться:
– Я посылал в Екатерингоф, мне сказали, что дуэль там.
Государь пожал плечами:
– Дуэль состоялась на островах, вы должны были это знать и послать всюду.
Бенкендорф был поражен его гневом, когда Николай I прибавил:
– Для чего существует тайная полиция, если она занимается бессмысленными глупостями!» [16, с. 346].
Вскоре Арендт прибыл к Пушкину с запиской от царя:
«Любезный друг Александр Сергеевич, если не суждено нам свидеться на этом свете, прими мой последний совет: старайся умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свое попечение». Затем приехал от Николая I В. А. Жуковский и передал его устное заверение: «О жене и детях не беспокойся: они мои». В ответ А. С. Пушкин судорожным движением поднял руки к небу и прошептал: «Вот как я утешен! Скажи Государю, что я желаю ему долгого, долгого царствования, что я желаю ему счастья в его сыне, что желаю ему счастья в его России» [17, с. 242].
Граф П. Д. Киселев, один из приближенных Николая I, был свидетелем того момента, когда царю принесли очередную записку доктора Арендта с сообщением о безнадежном положении Пушкина: «Он погиб, – с горечью произнес император... Он проживет еще лишь несколько часов... Он борется... Что за удивительный организм у него! Я теряю в нем самого замечательного человека в России». Когда же В. А. Жуковский известил Николая I о смерти поэта, он с удивлением увидел слезы на глазах у того, которого именовали железным и грозным властителем». Графиня А. О. Смирнова, привыкшая к злословию высшей знати по отношению к поэту, услышала неожиданную оценку А. С. Пушки- на из уст государя: «Рука, державшая пистолет, направленный на нашего великого поэта, принадлежала человеку, совершенно неспособному оценить того, в которого он целил. Эта рука не дрогнула от сознания величия того гения, голос которого он заставил замолкнуть» [16, с. 347].
На следующий день после похорон А. С. Пушкина Николай I собственноручно написал указ «О милостях семье Пушкина»: «1. Заплатить долги. 2. Заложенное имение отца очистить от долга. 3. Вдове пансион и дочери по замужество. 4. Сыновей в пажи и по 1500 р. на воспитание каждого по вступление на службу. 5. Сочинения издать за казенный счет в пользу вдовы и детей. 6. Единовременно 10 т.» [16, с. 347].
18 марта 1837 года император распорядился о разжаловании поручика Дантеса и немедленной высылке его из России.
Нам представляется, что наиболее точную оценку роли Николая I в жизни А. С. Пушкина дал В. А. Жуковский. 15 февраля 1837 года он отметил: «Россия лишилась своего любимого национального поэта. И между русскими особенную потерю сделал в нем сам государь. Он следил за ним до последнего часа; бывали минуты, в которые, как буйный, еще не остепенившийся ребенок, Пушкин навлекал на себя недовольство своего хранителя, но во всех изъявлениях неудовольствия со стороны государя было что-то нежное, отеческое. После каждого подобного случая связь между ними усиливалась: в одном – чувство испытанного им наслаждения простить, в другом – живым движением благодарности, которая более и более проникала в душу Пушкина и наконец слилась в ней по-эзиею… И государь до последней минуты Пушкина остался верен своему благотворению» [18, с. 394].
-
1. Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Собр. соч. Т. 3. М., 1975.
-
2. Скабичевский А. Д. Пушкин // Библиотека Флорентия Павленкова: Карамзин. Пушкин. Гоголь. Аксаковы. Достоевский. Челябинск, 1994.
-
3. Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом очерке // Избр. произведения. Т. 3. М., 1968.
-
4. Кузнецов И. В., Лебедев В. И. История СССР. М., 1957.
-
5. Федосов И. А. История СССР. М., 1990.
-
6. История России. 1682 – 1861. М., 1996.
-
7. См., например: Марич М. Северное сияние. Куйбышев. С. 680. Заметим, что лишь в начале XXI века появились работы, в которых давались более объективные оценки деятельности Николая I. Среди них назовем труды Б. Тарасова, Е. В. Волкова, А. И. Конюченко и др. Однако взаимоотношения императора и А. С. Пушкина еще требуют дальнейших исследований.
-
8. Вересаев В. Пушкин в жизни // Собр. соч. Т. 2. М., 1990.
-
9. Пушкин А. С. Соч. Т. 2. М., 1959.
-
10. Тыркова-Вильямс А. Пушкин. Т. 2. М., 2002.
-
11. Пушкин А. С. Соч. Т. 10. М., 1962.
-
12. Пушкин А. С. Соч. Т. 7. М., 1959.
-
13. Мясников А. Александр Сергеевич Пушкин // Великие русские люди. М., 1984.
-
14. Балязин В. Н. Неофициальная история России. М., 2008.
-
15. Последний год из жизни Пушкина. М., 1990.
-
16. Тальберг Н. Человек вполне русский // Николай и его время. Т. 1. М., 2002.
-
17. Вересаев В. Пушкин в жизни // Собр. соч. Т. 3. М., 1990.
-
18. Жуковский В. А. Конспективные заметки о гибели Пушкина // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1985.
Список литературы Николай I и гибель А. С. Пушкина
- Герцен А. И. О развитии революционных идей в России//Собр. соч. Т. 3. М., 1975.
- Скабичевский А. Д. Пушкин//Библиотека Флорентия Павленкова: Карамзин. Пушкин. Гоголь. Аксаковы. Достоевский. Челябинск, 1994.
- Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом очерке//Избр. произведения. Т. 3. М., 1968.
- Кузнецов И. В., Лебедев В. И. История СССР. М., 1957.
- Федосов И. А. История СССР. М., 1990. 6. История России. 1682 -1861. М., 1996.
- Марич М. Северное сияние. Куйбышев. С. 680.
- Вересаев В. Пушкин в жизни//Собр. соч. Т. 2. М., 1990.
- Пушкин А. С. Соч. Т. 2. М., 1959.
- Тыркова-Вильямс А. Пушкин. Т. 2. М., 2002.
- Пушкин А. С. Соч. Т. 10. М., 1962.
- Пушкин А. С. Соч. Т. 7. М., 1959.
- Мясников А. Александр Сергеевич Пушкин//Великие русские люди. М., 1984.
- Балязин В. Н. Неофициальная история России. М., 2008.
- Последний год из жизни Пушкина. М., 1990.
- Тальберг Н. Человек вполне русский//Николай и его время. Т. 1. М., 2002.
- Вересаев В. Пушкин в жизни//Собр. соч. Т. 3. М., 1990.
- Жуковский В. А. Конспективные заметки о гибели Пушкина//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1985.