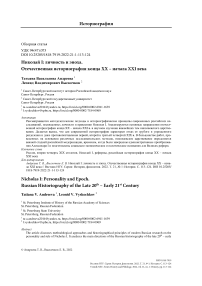Николай I: личность и эпоха. Отечественная историография конца XX - начала XXI века
Автор: Андреева Т.В., Выскочков Л.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются методологические подходы и историографические принципы современных российских исследований, посвященных личности и правлению Николая I. Анализируются основные направления отечественной историографии конца XX - начала XXI в. в научном изучении важнейших тем николаевского царствования. Делается вывод, что для современной историографии характерен отказ от грубого и упрощенного разделения и даже противопоставления первой, второй и третьей четвертей XIX в. В большинстве работ, проведенных на основании различных исследовательских методик, николаевское царствование определяется важной стадией российской модернизации, временем, когда были завершены административные преобразования Александра I и подготовлены социально-экономические и политические основания для Великих реформ.
Россия, вторая четверть xix столетия, николай i, реформы, российская историография конца xx - начала xxi века
Короткий адрес: https://sciup.org/147236260
IDR: 147236260 | УДК: 94(47).073 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-1-113-124
Текст научной статьи Николай I: личность и эпоха. Отечественная историография конца XX - начала XXI века
Andreeva T. V., Vyskochkov L. V. Nicholas I: Personality and Epoch. Russian Historiography of the Late 20th – Early 21st Century. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2022, vol. 21, no. 1: History, pp. 113–124. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2022-21-1-113-124
25 июня (7 июля) 2021 г. исполнилось 225 лет со дня рождения императора Николая I. Юбилейная дата заставляет обратиться к анализу современной историографии в отношении его личности и царствования, которые долгое время либеральная и советская историографические традиции характеризовали в стереотипах и традиционных штампах, неадекватных исторической реальности. Николаевское царствование определялось временем тридцатилетнего застоя и торжества реакции, идейного кризиса и упадка, трагедии сломленного последе-кабристского поколения, а Николай Павлович характеризовался как «Николай Палкин», «коронованный барабанщик», «жандарм Европы».
Для настоящего этапа развития историографического процесса, начавшегося в 1990-е гг. в сложных условиях разрушения старых традиций, кризиса методологической и историософской базы, исчезновения целых направлений, характерны следующие определяющие черты: плюрализм научной интерпретации, поиск новых исследовательских методик, отказ от идеи, что главной причиной фундаментальных перемен была революционная ситуация. И еще: именно изменения ученой конъюнктуры обратили взоры отечественных историков на эпохи социально-политической стабильности, прежде всего на царствование Николая I. Современный дискурс относительно Николаевской эпохи отличается интересом к опыту бюрократически управляемого процесса преобразований на фоне официальной и общественной дискуссии о модернизации России в XXI в., а также особым вниманием к индивидуально-биографическому жанру. Актуализация данного жанра расширяет границы научных представлений об эпохе, о месте человека в исторической среде, самой среде в ее различных формах и состояниях. При этом сложность задач, стоящих перед исследователями, возрастает, когда главным героем выступает российский император, тем более такой, как Николай I.
Применительно к исследуемой теме, рассматриваемой авторами в контексте преобразовательной политики и реформаторских поисков власти в николаевское царствование, можно выделить несколько направлений, внутри которых просматриваются различные методологические принципы и историографические подходы. В данной статье, продолжающей историографические штудии авторов [Андреева, Выскочков, 2011], дан анализ наиболее значительных работ конца XX – XXI в., посвященных личности Николая I и его эпохе.
Во-первых, это научно-биографические исследования, которые объединены в особое направление исторической персоналистики и соединяют в себе научную биографию и труд по политической истории России второй четверти XIX в. Их отличает внимание к личности Николая I, рассмотрение социально-политических процессов сквозь призму его жизни и государственной деятельности и применение историко-психологического и культурологического методов к изучению событий и явлений. И это вполне закономерно, поскольку в самодержавной России фигура императора всегда соединяла в себе единство личностно-индивидуального и политически общезначимого. Следует подчеркнуть, что период начала 1990-х гг.
оказался переломным в историографии николаевского царствования, когда после почти столетнего перерыва (имеется в виду двухтомный незавершенный труд Н. К. Шильдера) появились работы, в которых Николай I стал самостоятельным персонажем исторического исследования. В 1993 г. в «Вопросах истории» была опубликована статья Т. А. Капустиной «Николай I», в которой четко просматривается тенденция к «реабилитации» императора. Вместе с тем груз наследия советского прошлого обусловил негативную характеристику правительственной политики в отношении крестьянского вопроса, носившей, по мнению историка, консервативно-охранительный, непоследовательный и бессистемный характер [Капустина, 1993].
В том же году С. В. Мироненко написал большой биографический очерк о Николае I, которого впервые в постсоветской историографии представил как незаурядного государственного деятеля, четко осознававшего необходимость модернизации России. Историк показал, что николаевская модель преобразовательной политики в административной и социальной сферах, являя собой логическое продолжение официального реформаторства первой четверти XIX в., была направлена на укрепление российской государственности и отражала поступательный характер ее развития. Из александровского «наследия» были отброшены только политико-конституционные проекты. И хотя Николай I верил только «во всесилие государства» как «аппарата», позволяющего «регулировать и держать под контролем жизнь общества», тем не менее осознавал важность развития социума, прежде всего необходимость отмены крепостного права. При этом не только критика правительственной аболиционистской программы со стороны большинства сановничества, но главное – признание самим Николаем I, что форсированная эмансипация является «преступным посягательством на общественное спокойствие и на благо государства», что необходима длительная подготовка в социально-политическом, финансово-экономическом и идеологическом аспектах, способствовали замедлению реформаторского процесса и установке только на формирование условий для проведения отмены крепостничества [Мироненко, 1993].
Данная плодотворная тенденция к объективному и всестороннему изучению Николая I как человека и государя и его эпохи была продолжена в серии монографий Л. В. Выскочкова «Император Николай I: Человек и государь» [2001], «Николай I» в серии «ЖЗЛ» [2003], «Николай I и его эпоха. Очерки истории России второй четверти XIX века» [2018]. Имеющие новые исследовательские задачи, во-первых, в целом оценить роль Николая I в истории России и, во-вторых, продемонстрировать значение николаевской модели преобразовательной политики в едином модернизационном процессе второй половины XVIII – первой половины XIX в., они стали первыми в современной историографии специальными монографическими работами, в которых личность и государственная деятельность императора являются самостоятельным объектом изучения. В монографиях, исполненных в рамках одного из наиболее плодотворных направлений исторической мысли – «школы Анналов», проведено комплексное исследование становления личности, оформления политических взглядов Николая Павловича, формирования его принципов правительственной политики и бюрократической практики, а также подходов к решению важнейших внутри- и внешнеполитических проблем. Особое внимание Л. В. Выскочков уделяет психологическому типу и особенностям личности Николая I, нашедшим отражение в его реакции на «Крымское испытание», что усугубило болезнь и приблизило кончину императора. При этом историк подчеркивает, что хотя Крымская война была проиграна, но «война не была “позорной”, а армия “бессильной”. Россия с честью выдержала давление ведущих европейских государств, которые вынуждены были отказаться от наиболее амбициозных планов и ограничиться минимумом». И всё же, сохраняя крепостное право, Российская империя «проигрывала во внешнеполитическом соревновании с Европой» [Выскочков, 2018, с. 930–931].
В современной историографии особое внимание уделяется отдельным сюжетам, связанным с историей повседневности Императорского двора и царской семьи при Николае I. Наиболее значимой в этом плане является двухтомная книга много лет разрабатывающей эту те- му Т. Л. Пашковой «Император Николай I и его семья в Зимнем дворце» [2014], написанная с привлечением архивных материалов и неизвестных ранее иллюстративных источников. Автор представляет важнейшие эпизоды жизни императорской семьи в интерьерах Зимнего дворца с топопривязкой по комнатам. В монографии Л. В. Выскочкова «Будни и праздники Императорского двора» [2012] раскрывается структура Двора, анализируются придворные церемониалы и праздники.
Во-вторых, это обобщающие коллективные работы и монографические исследования, посвященные изучению исторических, политических и экономических аспектов российского реформаторского процесса, в том числе в период царствования Николая I. Еще дореволюционные (В. И. Семевский) и некоторые советские (С. Н. Чернов и Н. М. Дружинин) историки подчеркивали преемственность официального реформаторства первой, второй и третьей четвертей XIX в. Для современной историографии при общей идее о масштабности александровской эпохи и рубежности Великих реформ, ставших «поворотным событием» в истории имперской России, характерны, с одной стороны, отказ от противопоставления реформаторства различных эпох XIX столетия, а с другой – признание существования в его рамках единого преобразовательного процесса.
Так, авторы коллективной монографии под редакцией Б. В. Ананьича «Власть и реформы. От самодержавной к советской России» (СПб., 1996), ставшей уже классической, к объяснению правительственных инициатив и преобразовательной практики подошли, основываясь на позитивистских принципах эволюционности и причинно-следственной связи. В царствовании Николая I были выделены начальный период активного законотворчества и последние годы замедления реформ, определены признаки нараставших вследствие этого кризисных явлений [Власть и реформы…, 1996, с. 233–238].
На переломе советской и постсоветской эпох была опубликована монография С. В. Мироненко «Страницы тайной истории самодержавия: Политическая история России первой половины XIX столетия» (М., 1990), которая выходила за пределы сложившегося в историографии нарратива и знаменовала собой начало нового этапа в изучении преобразовательной политики Николая I, прежде всего в крестьянском вопросе. На основе анализа взглядов самого императора и деятельности секретных комитетов автор приходит к важному выводу, что официальная позиция в отношении крестьянской реформы носила последовательный и системный характер. При этом подчеркивается, что Николай I подходил к кардинальным преобразованиям взвешенно и прагматически. Это нашло отражение в отказе от форсированной «двуединой реформы», разработанной М. М. Сперанским и П. Д. Киселевым в Секретном комитете 1835 г. и предполагавшей проведение одновременных преобразований в помещичьей и государственной деревне. Николай I полагал, что их надо «развести»: вначале провести реформу государственных, а затем – владельческих крестьян. Особое внимание в этой связи автор уделил работе Секретного комитета 1839–1842 гг. и широко задуманной П. Д. Киселевым аболиционистской программе, вполне реалистичной и направленной на «выход из наступившего кризиса по пути крайне медленно, но неуклонно проводимого “сверху” комплекса мер, ведущих к уничтожению крепостного права». Ограниченность же практических результатов деятельности комитетов С. В. Мироненко связывает с сопротивлением не только помещиков, но и самих комитетчиков. В силу этого Николай I, считая для себя невозможным пойти на открытый конфликт как с сановной аристократией, так и с большинством консервативного дворянства, стремился, по крайне мере, «приготовить пути для постепенного перехода к другому порядку вещей» [Мироненко, 1990, с. 185–188, 193].
Указанная трактовка крестьянской политики Николая I нашла продолжение в новейших работах. Ее суть состоит в том, что отмена крепостного права рассматривается как составная часть растянутого почти на весь XIX в. аболиционистского процесса. Нашедший отражение в отмене крепостного права в Прибалтике в 1810-х гг., деятельности николаевских секретных комитетов и реальных преобразованиях в государственной деревне, крестьянской реформе 1861 г., он завершился обязательным выкупом наделов в 1883 г. При этом освободительные инициативы Александра I, Николая I и Александра II во многом были обусловлены стремлением императоров сохранить статус Российской империи как великой европейской державы.
Важным «этапом общего поступательного движения России», предварявшим реформы 1860-х гг., определяет период второй четверти XIX в. И. В. Ружицкая. В монографии «Законодательная деятельность в царствование императора Николая I» (СПб., 2015) на основе анализа правительственной деятельности в области аграрного и судебного законодательства продемонстрировано, что именно в николаевское царствование были заложены основания для реализации двух ключевых реформ царствования Александра II – крестьянской и судебной. Проанализировав проективную направленность большинства секретных комитетов и политические условия решения крестьянского вопроса, автор пришла к важному выводу: Николай I осознавал, что крепостное право является дестабилизирующим фактором, тормозившим социально-экономическое развитие России, прежде всего ее производительных сил, и потому проводил политику ограничения, смягчения крепостничества, сокращения численности крепостного населения. Следует отметить концептуальное положение, что от начала и до конца правления Николая I прослеживается «единая линия, единый замысел» преобразовательной политики. Главными причинами отказа власти от кардинального решения проблемы крепостного права в России исследовательница считает принцип освобождения крестьян с землей, положенный в основу официальной программы, что вызывало сопротивление основной массы помещиков; воздействие на императора консервативных взглядов членов императорской семьи и бюрократической элиты; влияние европейских революций 1830, 1848 гг. [Ружицкая, 2015, с. 43–244].
И. А. Христофоров в книге «Судьба реформы: Русское крестьянство в правительственной политике до и после отмены крепостного права (1830–1890-е гг.)». (М., 2011), рассматривая крестьянскую реформу 1861 г. как процесс, «лишенный заданности и четких хронологических границ», и считая, что ее компромиссность и внутренняя противоречивость обусловливались столкновением различных идеологических подходов и борьбой разных политических сил, начавшихся еще в николаевских секретных комитетах, обращается к выявлению ее истоков в теоретическом и практическом аспектах, сравнению замыслов и результатов. Причем впервые в историографии в центре исследовательского внимания «несущие конструкции реформы» – преобразования в административной структуре и сфере поземельных отношений, в том числе имущественное право, межевание, кадастр. По мнению автора, «первый масштабный приступ» имперской власти к решению крестьянского вопроса относится к 1830-м гг., когда стала формироваться идеологическая парадигма, основанная на принципе регламентации и контроля над крестьянами со стороны как государства, так и помещиков. При этом И. А. Христофоров считает, что Николай I «не собирался эмансипировать владельческих крестьян, т. е. превращать их в свободных и полноправных граждан», а стремился сделать всех крестьян империи государственными, регламентировать и рационализировать их жизнь [Христофоров, 2011, с. 6–11, 34–100, 350–356].
Между тем монография Т. В. Андреевой «На дальних подступах к Великой реформе: крестьянский вопрос в России в царствование Николая I. Исследование и документы» (СПб., 2019), основанная на официальных материалах, прежде всего проектах шести основных крестьянских комитетов 1826–1842 гг. и источниках личного происхождения, свидетельствует, что политика Николая I по крестьянскому вопросу уже четко обозначилась в деятельности Комитета 6 декабря 1826 г. Носившая концептуальный, комплексный, системный характер, тесно связанная с законодательной реформой и институциональными преобразованиями, она была направлена на подготовку основ освобождения помещичьих крестьян, создание условий для будущей, происходящей в другую эпоху эмансипации. Это было обусловлено идеологической матрицей правительственной преобразовательной программы, в которой доминировали принцип эволюционности и постепенности социальных изменений, отрицание единовременного и резкого уничтожения крепостничества. Процесс формирования социаль- но-экономических условий отмены крепостного права включал: его регламентацию и ограничение рядом частных законодательных актов; перестройку устройства и управления казенной деревней как модели для помещичьей; создание рационализированных и доходных систем землеустройства, землепользования, налогообложения; проведение комплекса предварительных преобразований в судебной, финансовой, кредитной сферах. В силу этого Великая реформа 1861 г. предстает не как одномоментный акт, а как целостный и длительный процесс, отражавший сложный характер российской модернизации [Андреева, 2019, с. 5–11, 46–134].
Анализу устройства и функционирования системы государственного управления в царствование Николая I, преобразовательной политики в институциональной сфере посвящена монография Л. Е. Шепелева «Аппарат власти в России. Эпоха Александра I и Николая I» (СПб., 2007). Особое внимание автор уделяет проектам реформ органов высшей, центральной и местной власти, разрабатываемым в Комитете 6 декабря 1826 г., и подчеркивает, что «организация государственного аппарата империи подвергалась в нем внимательному и критическому анализу», а многие частные наработки были востребованы и реализованы еще в николаевское царствование. Вместе с тем, по мнению Л. Е. Шепелева, власть считала опасным в данный исторический момент проводить коренное реформирование и считала достаточным только «учитывать собранные негативные и позитивные замечания» об административном устройстве империи [Шепелев, 2007, с. 101, 192].
В отличие от предыдущего автора, концепция И. В. Ружицкой, нашедшая отражение в ее книге «Государственный совет при Николае I: особенности функционирования» (М.; СПб., 2018), основана на главной идее, что на годы николаевского царствования «приходится завершение реформы системы управления», проведенной при Александре I, правительственное реформаторство в административной сфере носило последовательный и взаимосвязанный характер. Именно во второй четверти XIX в. был сформирован тот государственный механизм, который функционировал весь имперский период российской истории. Важным представляется положение автора, что система органов власти Российской империи вполне соответствовала существовавшим в это время в Западной Европе властным структурам, хотя имела специфические черты, связанные с ее политическим строем – самодержавием и крепостным правом. Трансфер европейских управленческих институций продолжался и в Николаевскую эпоху, когда происходили дальнейшее усовершенствование административной системы, «интеллектуализация бюрократии», формирование «новой бюрократической реальности», нашедшей отражение не только в ротации чиновничьих кадров, но и в их профессионализации. В целом И. В. Ружицкая определяет царствование Николая I как важный этап развития российской государственности, являвшийся «продолжением предыдущего с его реформированием системы управления» и создавший «условия для проведения на следующем этапе реформ Александра II» [Ружицкая, 2018, с. 287–292].
Данная точка зрения вполне справедлива, но следует иметь в виду, что николаевская модель преобразовательной политики в административной сфере, являя собой логическое продолжение официального реформаторства при Александре I, имела с ним как схожие, так и отличительные черты. В основе правительственных поисков усовершенствования государственной системы продолжала оставаться реформаторская программа, носящая системный и взаимосвязанный характер, институциональные преобразования, как и в предыдущую эпоху, были тесно связаны с законодательной реформой и развитием социальной структуры империи. Однако важнейшей задачей преобразований являлась централизация управления, инструментарием решения которой при Николае I стало соединение личного начала и управления посредством учреждений. Помимо этого, николаевский тип абсолютизма, сочетающий сильную авторитарную власть монарха с модернизированной системой государственного управления и фундаментальным кодифицированным законодательством, отличался от предшествующих и последующих. Это находило отражение в стремлении Николая I согласовать традиционалистские и западнические начала русской жизни и стабилизировать государст- венную и общественную систему империи путем усиления единства идеологии и практики официального консерватизма [Андреева, 2017, с. 30–48].
Кроме того повышенный интерес историков постсоветской эпохи наблюдается в отношении двух важнейших политических проблем николаевского царствования – государственной идеологии и государственного контроля при Николае I. А. Л. Зорин в монографии «Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века» (М., 2001), посвященной идеологическому «строительству» верховной власти во второй четверти XIX в., особое внимание уделил процессу оформления уваровской триады. При создании столь сложного феномена С. С. Уваров, как показал автор, стремился соединить на русской почве политическую теорию немецкого романтизма о «построении национального государства» и воспитании «национального характера» и охранительные гарантии в виде самодержавия, православия и народности, причем последняя подчинила себе оба первых элемента идеологемы. В условиях деформации религиозных, институциональных и народных оснований в Европе и распространения разрушительных тенденций, как считали Николай I и его ближайшее окружение, необходимо было укрепить Россию, утвердив на началах, составляющих ее отличительный характер. Стратегической целью государственной идеологии определялось, с одной стороны, уничтожение «противоборства» европейского образования и образовательных потребностей России, а с другой – идеологическое противостояние революционным лозунгам Европы, формирование нового поколения россиян, тесно связанного национальным единством, православным вероисповеданием, верноподданническим чувством [Зорин, 2001, с. 339–374].
Дальнейшее развитие данные идеи получили в монографии С. В. Удалова «Империя на якоре: государственная идеология, власть и общество в России второй четверти XIX века» (Саратов, 2018), в которой впервые дан комплексный анализ процесса становления, распространения и функционирования государственной идеологемы в контексте формирования политической системы Николая I и николаевской модели взаимоотношений власти и общества. В центре исследования – социокультурные условия пропаганды и реализации уваровской триады, административные ресурсы, используемые властью для ее внедрения и утверждения как идеологического приоритета в политическое сознание различных состояний и сословий России, и впервые в историографии национальная политика Российской империи второй четверти XIX в. в тесной связи с теорией официальной народности. Весьма значимым представляется вывод С. В. Удалова, что в триаде были тесно соединены две важнейшие идеи – национальная и государственная, причем последняя с течением времени всё больше подчиняла себе первую. При этом широкое распространение понятия «народность» в общественном сознании и усиление «противостояния идеи общеимперского единства чисто национальному патриотизму» после дела о Кирилло-Мефодиевском обществе в 1847 г. обусловили превращение «национально-государственной доктрины в общеимперскую идеологию» [Удалов, 2018, с. 221–228].
В монографии Г. Н. Бибикова, ставшей первым в новейшей историографии специальным исследованием жизни и государственной деятельности А. Х. Бенкендорфа в контексте его роли в создании и функционировании III Отделения СЕИВК, царствование Николая I делится на два периода. В первый период созданная по западному образцу политическая полиция, находившаяся в прямом подчинении императору и являвшаяся самостоятельным и независимым от других государственных структур органом, имела несколько направлений деятельности, включавших, помимо надзора за общей благонадежностью, контроль над министерствами и ведомствами, а также выявление общественных настроений и преобразовательных проектов. В этот период, по мнению автора, происходило «развитие политической системы императора Николая I по восходящей линии». Во второй период николаевского царствования «служба тайной полиции, продолжая мониторинг общественного мнения, не сможет застраховать» монарха «от тяжелых политических ошибок» [Бибиков, 2009, с. 337–338]. Здесь следует сказать, что после 1848 г. важнейшей задачей III Отделения был не «мониторинг обще- ственного мнения», как ранее, а борьба с европейским революционным влиянием. Отставание же России от передовых европейских государств было обусловлено не «политическими ошибками» Николая I, а неэффективной официальной стратегией, направленной на постепенное и поверхностное буржуазное развитие России, формирование примитивных, не затрагивавших самодержавный фундамент и феодальные сословно-крепостнические отношения верхушек капитализма, в то время, когда в Европе происходил форсированный аграрнопромышленный и социально-экономический переворот.
Монография Ф. Л. Севастьянова «Государственная безопасность есть предмет уважительный: политический розыск и контроль в России от Павла I до Николая I» (СПб., 2016) посвящена истории спецслужб в имперской России, важнейшей составной частью которых было III Отделение СЕИВК. С точки зрения автора, реорганизация службы высшей полиции при Николае I была обусловлена модернизацией в целом государственного аппарата, важностью формирования органа, являвшегося не только инструментом политического контроля, но и «каналом связи подданных со своим государем» [Севастьянов, 2016, с. 487–503]. Думается, актуализация вопроса о создании политической полиции была также связана с необходимостью купировать последствия династического и политического кризисов конца 1825 – начала 1826 г., предотвратить перерастание общественной активности в антиправительственное действие, ввести надзор за бюрократией и усилить борьбу с коррупцией в чиновничьей среде.
Также следует отметить обобщающие работы, посвященные социально-экономическому развитию Российской империи, в том числе в Николаевскую эпоху. Историография на эту тему проанализирована в исследованиях Б. Н. Миронова, в частности в его фундаментальной итоговой монографии «Российская империя: от традиции к модерну». Историк делает общий вывод об определенном запасе прочности дореформенной экономики, в силу этого считает, что отмена крепостного права была обусловлена не социально-экономическими причинами, а вызвана прежде всего военно-политическим противостоянием России и Запада [Миронов, 2014; 2015].
В последние годы в историографии актуализировались проблемы внешней политики и военных действий в царствование Николая I. Во втором томе истории внешней политики Российской империи, посвященном периоду 1825–1855 гг. О. Р. Айрапетов особое внимание уделяет взглядам самого Николая I на международную ситуацию в связи с геополитическими интересами России. Автор не только учитывает новейшую литературу, но и дает взвешенные оценки, при этом внешняя политика рассматривается в тесной связи с военными кампаниями [Айрапетов, 2017]. Г. А. Гребенщикова в серии капитальных монографий и прежде всего в монографии «Российский флот при Николае I» (СПб., 2014) показывает сложный процесс формирования морского щита России во второй четверти XIX в., анализирует взгляды самого императора. К сожалению, задуманную программу строительства винтовых кораблей, как показывает автор, не успели выполнить накануне войны [Гребенщикова, 2014]. Принципиально важными являются новые исследования, посвященные Крымской войне. Монография А. А. Кривопалова [2019], посвященная И. Ф. Паскевичу и русской стратегии накануне и во время войны позволила уточнить позицию и взгляды императора, до последних дней контролировавшего ход событий. Военные события на главном театре войны – Крымском – получили освещение в пяти продолжающихся книгах крымского военного историка С. В. Чен-ныка. Это наиболее обстоятельное исследование военных действий в Крыму с привлечением зарубежных публикаций [Ченнык, 2010; 2011; 2012; 2014]. По-новому заставляет взглянуть на организацию медицинской службы в годы Крымской войны монография Ю. А. Наумовой. Статистика, приведенная автором, позволила сделать вывод, что российская медицинская служба по своей эффективности находилась на уровне английской и была выше французской [Наумова, 2010].
Наконец в историографии николаевского царствования в последние годы получило развитие направление, связанное с историей науки, культуры, искусства в 1825–1855 гг. Эта тема требует отдельного анализа, тем более что обобщающих исследований, в которых анализировалась бы объективно роль Николая I в этой сфере, пока нет. Однако изучение этой проблематики стало более активным [Выскочков, Шелаева, 2016].
Итак, анализ научной литературы конца XX – начала XXI в., посвященной личности, государственной деятельности Николая I и его эпохе, свидетельствует о позитивных переменах, которые характерны для современного историографического процесса. Фигура российского императора, различные аспекты поиска оптимального для России пути развития, важнейшие проблемы ее социально-экономической и институциональной модернизации в царствование Николая I всё активнее и целенаправленнее становятся объектом глубокого осмысления и анализа. И хотя работы историков написаны на основании различных исследовательских методик и отражают различные представления о частных и конкретных вопросах, в целом отечественная историография, прошедшая долгий путь ригористической критики, остановилась, наконец, на позиции здравого смысла и признания периода второй четверти XIX в. важнейшим этапом российской истории, масштабной и переломной эпохой кануна Великих реформ, а самого Николая I – не реакционером, а «консерватором с прогрессом».
Список литературы Николай I: личность и эпоха. Отечественная историография конца XX - начала XXI века
- Айрапетов О. Р. История внешней политики Российской империи. 1801–1914.: В 4 т. М.: Кучково поле, 2017. Т. 2: Внешняя политика императора Николая I. 1825–1855. 621 с.
- Андреева Т. В. Государственное управление в России в начале царствования Николая I: к проблеме преемственности и различия в преобразовательной политике // Петербургский исторический журнал. 2017. № 2 (14). С. 30–56.
- Андреева Т. В. На дальних подступах к Великой реформе: крестьянский вопрос в России в царствование Николая I. Исследование и документы. СПб.: Историческая иллюстрация, 2019. 728 с.
- Андреева Т. В., Выскочков Л. В. Николай I: Pro et contra (зеркало для героя) // Николай I: Pro et contra. Антология. СПб., 2011. С. 7–62.
- Бибиков Г. Н. А. Х. Бенкендорф и политика императора Николая I. М.: Три квадрата, 2009. 424 с.
- Власть и реформы. От самодержавной к советской России / Под ред. Б. В. Ананьича. СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. 800 с.
- Выскочков Л. В. Император Николай I: человек и государь. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. 644 с.
- Выскочков Л. В. Николай I. М.: Молодая гвардия, 2003. 694 c. (Серия ЖЗЛ)
- Выскочков Л. В. Будни и праздники Императорского двора. СПб.: Питер, 2012. 493 с.
- Выскочков Л. В. Николай I и его эпоха. Очерки истории России второй четверти XIX века. М.: Академический проект, 2018. 999 с.
- Выскочков Л. В., Шелаева А. А. «Изящные художества достойны монаршего покровительства…»: император Николай I и русские художники // Ярославский педагогический вестник. 2016. № 3. С. 285–295.
- Гребенщикова Г. А. Российский флот при Николае I: документы, факты, исследования. СПб.: Остров, 2014. 799 с.
- Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М.: НЛО, 2001. 414 с.
- Капустина Т. А. Николай I // Вопросы истории. 1993. № 11/12. С. 31–39.
- Кривопалов А. А. Фельдмаршал И. Ф. Паскевич и русская стратегия в 1848–1856 гг. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2019. 287 с.
- Мироненко С. В. Страницы тайной истории самодержавия: политическая история России первой половины XIX столетия. М.: Мысль, 1990. 236 с.
- Мироненко С. В. Николай I // Российские самодержцы. 1801–1917. М., 1993. С. 91–158.
- Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну: В 3 т. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. Т. 1. 896 с.; 2015. Т. 2. 912 с.; Т. 3. 992 с.
- Наумова Ю. А. Ранение, болезнь и смерть: Русская медицинская служба в Крымскую войну 1853–1856 гг. М.: Изд-во «Модест Колеров», 2010. 319 с.
- Пашкова Т. Л. Император Николай I и его семья в Зимнем дворце: В 2 ч. СПб.: Изд-во ГЭ, 2014. Ч. 1: 1796–1837. 464 с.; Ч. 2: 1838–1855. 521 с.
- Ружицкая И. В. Законодательная деятельность в царствование императора Николая I. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. 358 с.
- Ружицкая И. В. Государственный совет при Николае I: особенности функционирования. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. 311 с.
- Севастьянов Ф. Л. Государственная безопасность есть предмет уважительный: политический розыск и контроль в России от Павла I до Николая I. СПб.: Победа, 2016. 552 с.
- Удалов С. В. Империя на якоре: государственная идеология, власть и общество в России второй четверти XIX века. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2018. 256 с.
- Христофоров И. А. Судьба реформы: Русское крестьянство в правительственной политике до и после отмены крепостного права (1830–1890-е гг.). М.: Собрание, 2011. 367 с.
- Ченнык С. В. Крымская кампания (1854–1856 гг.) Восточной войны (1853–1856 гг.): В 5 ч. Севастополь, 2010. Ч. 1. 320 с.; 2011. Ч. 2. 319 с.; 2012. Ч. 3. 300 с.; 2014. Ч. 4. 304 с.; Ч. 5. 320 с.
- Шепелев Л. Е. Аппарат власти в России. Эпоха Александра I и Николая I. СПб.: Искусство, 2007. 461 с.