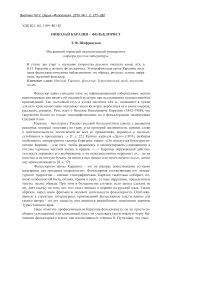Николай каразин – фольклорист
Автор: Шафранская Элеонора Федоровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 1, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье дан старт к изучению творчества русского писателя конца XIX в. Н.Н. Каразина в аспекте фольклоризма. Этнографическая проза Каразина насыщена фольклористическими наблюдениями: это обряды, ритуалы, устные нарративы, песенный фольклор.
Николай каразин, фольклор, туркестанский край, инклюзивность
Короткий адрес: https://sciup.org/146121628
IDR: 146121628 | УДК: 821.161.1.09+
Текст научной статьи Николай каразин – фольклорист
Фольклор давно ушедших эпох, не зафиксированный собирателями, можно реанимировать как память об ушедшей культуре при исследовании художественных произведений. Так, пытливый слух и взгляд писателя xIx в., попавшего в чужие для него края, кропотливо описывает иную культуру, вербализуя ее в своих очерках, рассказах, романах. Речь идет о Николае Николаевиче Каразине (1842–1908), чье творчество богато не только этнографическими, но и фольклорными материалами Средней Азии.
Каразин – беллетрист. Расцвет русской беллетристики совпал с расцветом реализма, который «поставил во главу угла критерий жизненности, прямое слово о действительности, постигаемой во всех ее проявлениях, коренных и частных, устойчивых и преходящих…» [1, с. 22]. Критик журнала «Дело» (1874), разбирая особенность литературного таланта Каразина, пишет: «Он пользуется беллетристическою формою… для того, чтобы разъяснять и комментировать сложившиеся в его уме картины местной жизни и нравов. <…> Картины окружающей действительности поражают его воображение, и он непосредственно переносит их… не на полотно, а на писчую бумагу, не внося в них ничего или почти ничего своего , лично ему принадлежащего» [8, с. 17].
Фольклоризм прозы Каразина – это не раскрас повествования устными шедеврами для придания «народности». Фольклорная составляющая его литературного творчества – именно этнографическая: Каразин тщательно собирает, помимо особенностей быта, облика, нравов и проч., устные нарративы, прецедентные тексты, песни, обряды. При этом в большинстве случаев, если запись сделана не им, дает ссылку на того, кто этот текст записал и перевел на русский язык. Таким образом, перед нами фрагменты полевой деятельности фольклориста. Опубликованные в структуре литературных произведений фольклорные тексты важны для самого автора – по его замыслу, они являются важнейшими элементами картины Туркестанского края.
Надо отметить профессионализм Каразина-фольклориста: он не просто сообщает услышанный или записанный текст, он учитывает такую важную черту бытования фольклорного текста, как инклюзивность (термин Б. Путилова), что озна- чает включенность всей фольклорной культуры и каждого отдельного произведения в общую жизнедеятельность народа [9, с. 73]. Инклюзивность фольклора получила обоснование в концепции английского антрополога Б. Малиновского о функциональной теории культуры. Под функцией Малиновский разумеет множество прагматических действ: «от простейшего акта еды до священного ритуала причастия…» [7, с. 133].
Этот аспект деятельности Каразина должен стать отдельной проблемой исследования. Цель данного сообщения – лишь обозначить научно-творческое, фольклористическое направление в каразинской прозе, которое в дальнейшем, надеюсь, найдет своего исследователя.
Вот неоднократно приводимая Каразиным поговорка, ее варианты: «Стать на хвост барантачам» [3, с. 104], «как выражаются» (комментирует Каразин) или «как говорится: мордою в хвост» [4, с. 17] (барантачи – грабители; в русском языке ХХ в. слово трансформировалось в басмачи ).
Тотемической силы фигура Тимура не раз упомянута Каразиным: «Современный туземец – бродячий кочевник или заезжий торгаш при караване – разинув рот, осматривает это гигантское сооружение и недоумевает: человеческими ли руками возведены эти просторные своды, эти арки, в которых, не нагибаясь, можно проехать на самом высоком верблюде, и, по простоте своей, относит все это ко времени и деятельности великого Тимура – личности, давно уже принявшей гигантский, сказочный образ. <…> …Все они так давно строены, что никаких следов не сохранилось, который раньше строен, который позже: разницы в сотни лет слились в общем итоге, и вот слагается легенда, что “герой хромоногий” в одну ночь разбросал по безводным степям эти спасительные постройки» [3, с. 111]; «Легенда – давно забытая – говорила, что пещера эта служила святому отшельнику, пришедшему с далекого Юга, что отшельник этот великие чудеса творил, воскрешал мертвых, и сам Тимур однажды велел зарыть его в землю, распахать место погребения, посеять пшеницу, дождаться зерна, убрать, смолоть и спечь хлеб, и тогда только разрыть могилу, так как тот обещал сам вкусить хлеба, на его могиле взращенного. Так и произошло» [4, с. 92].
Каразин собрал многочисленные топонимические предания, одно из них: «…Небольшой кишлак “Урус” [русский. – Э.Ш.]. В деревне этой не было ничего, что бы хотя сколько-нибудь оправдывало ее название. <…> Обитатели этого кишлака были кровные узбеки, – по крайней мере, в настоящее время, – и положительно нельзя было встретить ни одного лица, которое, хотя бы одной чертою, напоминало бы русский тип. Лет триста тому назад, говорит предание, в бухарском ханстве находилось много русских беглых; они просили, чтобы им отвели какое-нибудь место для поселения. Просьба эта была выполнена, но только под одним условием – принятия мусульманства.
Таким образом, в Заравшанской долине поселилось несколько десятков русских ренегатов; обзавелись они новыми семействами и зажили, по крайне мере, сначала, довольно хорошо, что называется, припеваючи» [6, с. 106–107]. По прошествии ряда лет стали в округе этой русской деревни случаться грабежи и убийства. Со стороны местных жителей пошли недовольства. Молва гласила, что русские опять стали молиться своему богу, выбрав себе «муллу-попа». Власти начали преследовать былых беглых русских. А тут один из походов бухарского эмира завершился неудачей – поражение приписали молитвам неверных, которых в отместку всех до единого вырезали. Но название кишлака сохранилось – «Урус».
Еще одно топонимическое предание - большой, в четыре страницы, текст [5, с. 396–399] о том, как пришла беда на каракалпакский народ от злых туркменов: каракалпаки жили водой, тем, что в ней водилось. А тут Аллах разгневался на них неизвестно за что. Забросят сети - то змеи в них, то жабы, то волосатые черви. Поняли каракалпаки, что конец их пришел. Повесили камни на шею и топиться. Но тут пришел Он, в лучах солнца и сказал: идите, ваши сети лопаются от рыбы. И правда, улов был велик. То же и на следующий день. Когда опять явился Он, сказал: я прощу вас, если выполните то, что написано на камне, и исчез. Откуда ни возьмись появился огромный камень. Позвали муллу грамотного, прочитал: «Зовут меня Токмак; отсюда на запад, на выходе к морю, на голом острове лежат на песке мои кости непогребенные. И с острова того не хотят уходить они, и под камень этот просятся» [5, с. 398–399]. Отыскали каракалпаки тот остров, с огромным трудом перевезли туда камень - похоронили святого. С тех тот остров Токмак-Ата зовется (отец Токмак).
Придя на тамашу (вечер развлечений), русские гости услышали исполнение песни: «Мотив песни был скучный и однообразный; вся песня состояла из коротких, отрывочных куплетов, между которыми певица вставляла иногда свои личные замечания. Она пела:
В большом курятнике жил петух со своими курами.
Петух был один, а кур у него было двадцать. <_>
[Пропуски в тексте песни на месте угловых скобок - это не пропуск строчек песни, а опущенные комментарии исполнительницы. - Э.Ш.]
Петуху было хорошо; он большего и не желал,
Куры же его думали иначе.
Петуху было весело. Он сидел посреди двора и только крыльями хлопал.
Куры скучали, ходили, повеся головы,
И все норовили подойти поближе к краю стены…
Им хотелось видеть, что делается на улице.
Смотрят, бежит мимо красная курица;
Она бежит, так посередине улицы и несется... <^>
-
- Стой, красная курица, ты куда и откуда? - спрашивают ее петуховы куры.
-
- Бегу я туда, куда хочу, и оттуда, откуда хочу. Я птица вольная, не то, что вы, несчастные, - Отвечает им красная курица, а сама остановилась на минуту. ..<.. .>
-
- Нам бы тоже хотелось побегать по улице... вот так, как ты, да своего петуха боимся.
-
- Дуры, - говорит им вольная курица, - оттого и боитесь!..
Сидите вы, глупые, взаперти и не знаете ничего, что на свете есть нового...
-
- Расскажи нам, коли ты знаешь, а мы будем слушать.
-
- Жил на свете большой коршун, все петухам сродни.
Сильнее его не было птицы, и делал он, что хотел.
Все его боялись и слушались, и по его приказу все делалось.
Петухам от того было хорошо, курам плохо...
Подуло ветром с зимней стороны, и принес этот ветер другого коршуна, Гораздо посильнее и больше, чем первый.
Обломал он тому оба крыла, оборвал когти на лапах,
Согнал его с нашестка, а сам сел на его место...
И велел он оповестить всем курам, что никто теперь над ними не властен.
Хочешь сидеть в курятнике - сиди, не хочешь - бегай по улице.
Кто слышал это, тот обрадовался, побежал,
Кто не слыхал, тот и до сей поры, вот как вы, только из-за стенок глазеет.
-
– Ладно, – смекнули петуховы куры и стали переговариваться да на своего петуха поглядывать;
А тот спит себе в тени и ничего не слышит. <…>
Проснулся петух, гаркнул на весь двор, кур своих скликает,
А уже их и след замело ветром. Всех за собою сманила красная курица» [6, с. 137–138].
Текст песни Каразин сопровождает паспортными данными: «Подстрочный, буквальный перевод, записанный доктором Авдеевым» [6, с. 137]. Песня записана в Каттакургане.
Иносказательность песни легко прочитывается контекстом ее исполнения: слушатели пришли в туземный бордель, нарядные и красивые девушки ублажают гостей пением. В песне аллегорически сообщается о смене «парадигмы» – с патриархальной на эмансипированную, все это случилось с приходом в край русских. Самой исполнительнице такое положение вещей по нраву.
Каразинский рассказчик из романа «Наль» описывает всенародный праздник в одном из городов Туркестанского края – это был день святого Ишан-Дауда. В тутовой роще, что недалеко от могилы святого и мечети, собирается народ со всех ближайших округ. Именно здесь во время праздника – тамаши – Каразин только успевает наблюдать, фиксировать, запоминать все, что имеет отношение к культуре края. Перед нами – концентрация всех народных забав и развлечений: «Здесь и труппы батчей-плясунов, и “машкара-базов” (актеров), дающих под открытым небом свои циничные представления, здесь и чайхане, и походные кухни со всякими сластями, и укромные лавочки продавцов “бузы”, которою можно упиться до полного опьянения, и тайные притоны с неизбежными опиумом, ганашою и кукнаром, с доведенными до полного истощения, тенеподобными посетителями-курильщиками. Здесь и приюты для игры в кости и орлянку, где расчет частенько доходит до ножей и крови, и удалые скачки, и другие конные ристалища… В священной роще Ишан-Дауда в этот день можно было наслушаться сказок и песен бродячих поэтов-сказочников и священных проповедей фанатиков-дивона, одним словом, здесь собирается все, что только может соблазнить азиата; и не попасть в этот день сюда было бы громадным лишением для каждого правоверного. Целью поездки наших офицеров также было желание посмотреть и послушать все, что творится в этом интересном пункте» [4, с. 18].
Каразин записал похоронный обряд кочевников: «Еще издали слышали мы какой-то заунывный гул, чрезвычайно похожий на наше причитание; когда мы приблизились, то ясно могли различить женский плач и всхлипыванье, шумный говор мужчин и однообразное, точно дьячковское чтение. Мы попали на похороны, обряд которых начался часа за два до нашего прибытия и был нами прерван, впрочем, ненадолго. <…> Оправившись и приведя в порядок свой костюм, я пошел тоже отдать дань покойнику, а главное, посмотреть, что там такое делается. <…> Страшная духота, несмотря на откинутый верх, наполняла эту горницу; женщины, молодые и старые, некоторые очень красивые, окружали покойника и жалобно причитали что-то непонятное; по временам они затихали и потом вдруг, как будто по сигналу, взвизгивали всем хором, ударяя в грудь руками и раскачиваясь всем туловищем. <…> Между женщинами теснились ребятишки, толкаясь и ссорясь между собою, а около стенок чинно сидели мужчины, передавали из рук в руки сделанный из тык- вы-горлянки и крашенный медью кальян и громко разговаривали о разных, как видно, посторонних предметах. <…> У ног покойника, на низеньком табурете, стояла большая деревянная миска, до краев наполненная вареным рисом, и другая, глиняная, с кислым молоком. То тот, то другой из присутствовавших подходили к этим блюдам и, забрав горстью рису, отходили на свои места, жуя и облизываясь. Мне это напомнило нашу похоронную кутью – недоставало только блинов и восковых свечей.
Через час покойного вынесли, положили на дворе на пучки камыша и приставили двух караульных с палками, дабы собака не оскорбила, во время всеобщего сна, памяти умершего» [2, с. 81–83].
Этот и ряд других фрагментов доносят до читателя важную информацию о самом повествователе, который максимально нацелен на то, чтобы все увидеть и описать; это не праздное любопытство – это профессиональная заинтересованность этнографа, который, невзирая на неэстетичные, неприятные ему детали, тем не менее, доводит свою работу до конца.
В следующем фрагменте воспроизведен образ народного исполнителя, поэта-импровизатора: «Старик был слеп… <…> Старик медленно опустился на подостланную под него баранью шкуру, взял длинную балалайку и начал перебирать струны своими костлявыми пальцами.
Все присутствующие с почтением относились к старику; молчание воцарилось повсюду, только слышалось тихое дребезжание струн и глухой шелест сдвигающейся плотнее толпы.
Это был известный по всему кочевому миру певец-импровизатор Гассан, о котором я слышал много еще прежде и которого, наконец, удалось мне видеть вблизи и слушать его импровизации.
Я жадно слушал этого степного Гомера и старался вникнуть в содержание и смысл его песни; и как я жалел, что не настолько знал этот язык, чтобы построчно записать все слышанное.
Он пел об известном агитаторе тридцатых годов [1830-х. – Э.Ш.] – Кенисаре [Кенесары Касымов – глава национально-освободительного движения казахов против русской экспансии. В 1841 г. сдался русским властям и был амнистирован (см.: [10, с. 54–57]). – Э.Ш.]; о его войнах с русскими, о его бегстве; о его несчастной любви, об измене его друзей и, наконец, о его геройской смерти…
Аблай-бий шепнул мне: “Он сам был все время с Кенисарой, и тогда уже он был седой старик”.
А слушатели молча стояли и сидели вокруг, покачивая головами в такт пения, и не один тяжелый вздох вылетал из груди, сливаясь с однообразным напевом старца. <…> Грамотности нет и в помине [Каразин рассуждает о слушателях. – Э.Ш.], и потому, если случайно встретится личность, могущая с трудом разобрать только заголовок из первой страницы Корана, то ее считают ученейшей из ученейших мира сего. Зато способность к сохранению преданий развита до необыкновенной степени; легенды и факты, относящиеся чуть ли не к временам Тамерлана, передаются с необыкновенной точностью, точно события, свершившиеся не более десяти лет тому назад. А живыми хранителями и распространителями преданий служат такие же странствующие певцы-импровизаторы, как Гассан, который пил кумыс в кибитке Аблая-бия после своих вдохновенных импровизаций» [2, с. 94–97]. В этом фрагменте из очерка Каразина представлена объемная картина бытования фольклора кочевников.
Наиболее часто фиксируемый фольклорный жанр в прозе Каразина – это проповедь дервиша. Дервиш воспринимался чужой культурой (пришлыми русскими) как шпион и фанатик, отсюда те комментарии, негативные, которыми Каразин сопровождает записанные им тексты (например, см.: [4, с. 46]). Однако этот аспект требует отдельного освещения, не вмещающегося в данное сообщение.
277 277
Список литературы Николай каразин – фольклорист
- Гурвич И.А. Беллетристика в русской литературе xIx века. М.: Рос. откр. ун-т, 1991. 90 с.
- Каразин Н.Н. Из Центральной Азии: Очерк первый//Дело. 1872. № 1. С. 63-103.
- Каразин Н.Н. На далеких окраинах: Роман//Каразин Н.Н. Полн. собр. соч.: в 20 т. СПб.: Изд. П.П. Сойкина, 1905. Т. 1. 272 с.
- Каразин Н.Н. Наль: Роман//Каразин Н.Н. Полн. собр. соч.: в 20 т. СПб.: Изд. П.П. Сойкина, 1905. Т. 5. 224 с.
- Каразин Н.Н. С севера на юг: Роман//Каразин Н.Н. Полн. собр. соч.: в 20 т. СПб.: Изд. П.П. Сойкина, 1905. Т. 7-8. 520 с.
- Каразин Н.Н. Тьма непроглядная: Повести и рассказы//Каразин Н.Н. Полн. собр. соч.: в 20 т. СПб.: Изд. П.П. Сойкина, 1905. Т. 6. 247 с.
- Малиновский Б. Научная теория культуры. М.: ОГИ, 2005. 184 с.
- Никитин П. Ташкентские рыцари (Повести и рассказы Н.Н. Каразина. Иллюстрированное издание)//Дело. 1874. № 11. Современное обозрение. С. 1-20.
- Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура; In memoriam. СПб.: Петербургское востоковедение, 2003. 464 с.
- Центральная Азия в составе Российской империи. М.: НЛО, 2008. 464 с.