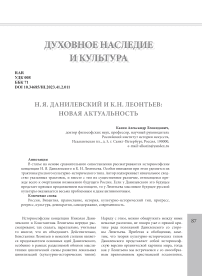Н.Я. Данилевский и К.Н. Леонтьев: новая актуальность
Автор: Казин А.Л.
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Духовное наследие и культура
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе сравнительного сопоставления рассматриваются историософские концепции Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева. Особое внимание при этом уделяется их трактовке русского культурно-исторического типа. Автор подчеркивает изначальное сходство указанных трактовок, и вместе с тем их существенное различие, относящееся прежде всего к очертаниям возможного будущего России. Если у Данилевского это будущее предстает прямым продолжением настоящего, то у Леонтьева мыслимое будущее русской культуры оказывается весьма проблемным и даже антиномичным.
Россия, византия, православие, история, культурно-исторический тип, прогресс, регресс, культура, демократия, самодержавие, современность
Короткий адрес: https://sciup.org/170199926
IDR: 170199926 | УДК: 008 | DOI: 10.34685/HI.2023.41.2.011
Текст научной статьи Н.Я. Данилевский и К.Н. Леонтьев: новая актуальность
Историософские концепции Николая Данилевского и Константина Леонтьева нередко рассматривают, так сказать, параллельно, учитывая то многое, что их объединяет. Действительно, Константин Леонтьев в немалой степени является продолжателем основных идей Данилевского, особенно в рамках разделяемой обоими мыслителями циклической схемы развития локальных цивилизаций (культурно-исторических типов).
Наряду с этим, можно обнаружить между ними немалые различия, не говоря уже о прямой критике ряда положений Данилевского со стороны Леонтьева. Прибегая к обобщению, заметим, что теория культурно-исторических типов Данилевского представляет собой историософскую версию органической картины мира, тогда как у Леонтьева мы встречаемся с со своеобразным преломлением христианской эсхатологии, особенно применительно к Европе. Условно можно сказать, что последовательная, детальная концепция Данилевсеого — это рациональная логика отечественной и мировой культуры, тогда как мысль Леонтьева стремится преодолеть любое ratio в попытке разглядеть будущее, представлявшееся ему духовно катастрофическим.
Отметим прежде всего, что Данилевский был биолог, и его замысел состоял в том, чтобы показать своеобразие славяно-русского «растения» на фоне мировой исторической и культурной жизни. Характерно, что свою знаменитую книгу «Россия и Европа» он начинает почти с «тютчевского» вопроса: почему Европа нас не любит? И отвечает: потому что Европа видит в России чуждое себе начало. Несмотря на все благодеяния Европе со стороны России — защита от Орды, освобождение от Бонапарта и т. д., — Европа не считает нас своими. Более того, Россия делается смешной, когда начинает строить из себя Европу («империя фасадов», по выражению маркиза де Кюстина)...
Уже из такой постановки вопроса следует, что Россия как культурно-исторический тип отличается от романо-германккого (европейского) типа рядом черт-признаков, описываемым автором «России и Европы» в качестве атрибутивных, то есть необходимо вытекающих из самой четырех-основной сущности русской цивилизационной матрицы. Иными словами, Россия, по Данилевскому, изначально обладает той самой религиозно-исторической и практической целостностью, которая выгодно отличает её от европейской «несостоявшейся» цельности, не говоря уже о двух- или трех-основных структурах других цивилизаций. Каждая цивилизация вырабатывает особое, свойственное только ей отношение к Богу (религия), своеобразное отношение к внешнему миру (наука и искусство), специфические отношения людей друг к другу как в государственной жизни (политика), так и в труде (хозяйство). Ни в коем случае нельзя смешивать культурно-исторические типы друг с другом, или навязывать одной цивилизации политику, экономику или веру другой.
Предложенная Н.Я. Данилевским точка зрения на Россию, конечно, лестна для нас, обещая стране великое будущее. Однако возникает вопрос — насколько она оправдана метафизически и религиозно? Есть ли найденное Данилевским строение русского мира нечто изначально данное, присущее ему от века, или всё же обретенное в опыте? То, что Россия — не Европа, в особых доказательствах не нуждается, это видно невооруженным глазом. Ещё Пушкин в своей рецензии на «Историю русского народа» Н. Полевого отчеканил, что Россия «никогда не имела ничего общего с остальною Европою; здесь нужна другая мысль, другая формула»1.
Сегодня, в ХХ1 веке, мы можем констатировать, что теория Николая Яковлевича Данилевского, созданная в 60-х годах позапрошлого столетия, оказалась одной из наиболее удачных «русоведческих» и культурологических формул, опередив в этом плане построения Шпенглера, Сорокина, Тойнби и ряда других мыслителей. Свою актуальность и практическую применимость она проявляла в течение всего ХХ века (две мировые войны), и снова проявила теперь, когда военная операция (СВО) на Украине в третий раз на протяжении ста лет противопоставила Россию Западу, на это раз политически объединенному. Однако вопрос остается: является ли обнаруженная Данилевским целостная четырех-основная структура русского культурно-исторического типа непреложной, изначально данной — или она достигается духовным усилием народа, и может быть частично или целиком утеряна им по его собственной вине? Именно об этом, кстати, задумывался великий славянофил А. С. Хомяков, когда писал в своих стихах о России: «О недостойная избранья, Ты избрана!»2.
Конечно, указанный фундаментальный вопрос может быть адресован любой теории локальных цивилизаций, выдвигающей на первый план их уникальное ядро (праформу, прасимвол, по терминологии Шпенглера), и обрекающей тем самым на вторичность их связь с другими культурно-историческими типами, не говоря уже о невозможности в таком дискурсе ставить вопрос о каком бы то ни было единстве человечества. Н.Я. Данилевский это хорошо понимал, и потому закончил свою книгу выводом о том, что в религиозном плане Россия-Русь оказывается завершающим звеном небесного потока всемирной истории (Иерусалим—Царьград—Москва)
в противовес ее «слишком человеческому» началу (Афины—Рим—Европа—Америка). Нам не дано знать, как этот спор разрешится3 — писал Данилевский. Но спор этот составляет стержень мирового развития.
Творчество младшего современника, и, можно сказать, ученика автора «России и Европы» К.Н. Леонтьева является прямым продолжением этого спора. Я имею в виду здесь не прямую критику учителя со стороны ученика, а корневой смысл и пафос всего леонтьевского учения. Проблема для Леонтьева была не в том, чтобы «структурировать» Россию — эту работу выполнили до него старшие славянофилы и тот же Данилевский, а в том, чтобы осмыслить её дальнейшие пути в условиях враждебного западного окружения. Причем в состав этого окружения Константин Николаевич, в отличие от Данилевского, включал и европейских славян. Во всяком случае, славянофилом в строгом смысле слова он не был, как не был и западником. Он ценил в Европе её классику, которая, по его мнению, приходилась на Средние века (великие готические соборы и др.) — во всяком случае, отмечал то, что в Европе было подлинно возвышенного до тех пор, пока Европа не утонула в интересах среднего буржуа «как идеала и орудия всемирного разрушения»4. Что касается европейских славян, особенно чехов, то они просто повторяют, по мнению Леонтьева, проторенные дороги своих западных соседей, ведущие в никуда.
Гораздо сложнее леонтьевская постановка вопроса о России. Если она, подобно другим цивилизациям, воспроизводит круговую схему «юность — зрелось — старость», то земная и небесная судьба её предрешена. Но в том-то и дело, что Леонтьев — отчасти вопреки собственному (и общему у него с Данилевским) «органическому» закону старения культурно-исторических типов — выказывает надежду на преодоление этого рокового закона в случае с русским Третьим Римом, причем, как в положительную, так и в отрицательную сторону. Поначалу автор «Востока, России и Славянства» надеялся на мощную православную (византийскую) традицию русской сословной монархии: «Для задержания народов на пути антихристианского прогресса, для удаления срока пришествия антихриста (т. е. того могущественного человека, который возьмет в свои руки все противохристианское движение) необходима сильная царская власть. Для того же, чтобы эта царская власть была долго сильна, не только не нужно, чтобы она опиралась прямо и непосредственно на простонародные толпы, своекорыстные, страстные, глупые, подвижные, легко развратимые; но — напротив того — необходимо, чтобы между этими толпами и Престолом Царским возвышались прочные сословные ступени; необходимы боковые опоры для здания долговечного монархизма»5. «Вот прямая и откровенная постановка государственного дела, без всяких лжегуманных жеманств»6.
Однако со временем, особенно к концу жизни, его оптимизм относительно византийской предрешенности русской судьбы сильно преобразился. Можно сказать, что в философском смысле Леонтьев перешел от логики к русскому Логосу, то есть от наличного строения к проблемному раскладу альтернативных возможностей России. Солнце, как известно, не только дает жизнь, но и убивает. Точно так же Православие предполагает верность ему, или — в случае отказа –- падение в ничто как в символическом, так и в фактическом смысле этого слова. «Чтобы русскому народу действительно пребыть надолго тем народом — «богоносцем», от которого ждал так много наш пламенный народолюбец Достоевский <…> не надо лишать его тех внешних ограничений и уз, которые так долго утверждали и воспитывали в нем смирение и покорность. Эти качества составляли его душевную красоту и делали его истинно великим и примерным народом <…> Самой земной Церкви, или, говоря прямее и точнее, самому спасению наибольшего числа христианских душ <...> — нужен могучий Царь.
Иначе через какие-нибудь полвека (! — А. К.) не более, он из народа «богоносца» станет мало-помалу, и сам того не замечая, «народом-богоборцем», и даже скорее всякого другого народа, может быть. Ибо действительно он способен во всем доходить до крайностей. <…> Без строгих и стройных ограничений <…> русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути всесмешения и — кто знает? — подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет Учитель Новой Веры, — и мы, неожиданно, лет через 100 каких-нибудь, из наших государственных недр, сперва бессословных, а потом бесцер-ковных или уже слабо церковных — родим только самого антихриста»7.
Это цитата из предсмертной статьи К.Н. Леонтьева «Над могилой Пазухина», написанной в 1891 году. В сроках он ошибся немного — всего на 24 года. В 1917 году в России произошло восстание именно под антихристианскими лозунгами. Другое дело, что Советская Россия по своей глубинной эсхатологической сути оказалась превращенной формой того же изначального христианского выбора Руси, что и Третий Рим, и даже отчасти Российская империя. В этом и заключается тайна русского Логоса. Народ-богоносец внутренне не изменил своему призванию — не потому, что не мог этого сделать фактически (структурно), а потому, что таково было его волеизъявление в пространстве веры. «Мученики за веру были при турках, при бельгийской конституции едва ли будут и преподобные»8 — писал Леонтьев, наблюдая, как новая Европа становится внутренне постхристианской при сохранении всех внешних атрибутов католического (или протестантского) культа и даже королевской власти. В отличие от этой условной Бельгии, Россия политически и государственно впала в антихристианство, но в коллективном подсознании (точнее, в сверхсознании) русского народа жила вера в иначе возможное, в будущее «не от мира сего». Русский коммунизм воспринимался как метаисторический и, по сути, религиозный проект, для победы которого нужны «почти святые» люди (новый человек), а не обыватели средне-буржуазного толка. В романе А.Платонова «Чевенгур» строители коммунизма думают не о потреблении, а о конце света. Пророчество Леонтьева исполнилось тогда, когда поздние советские коммунисты выродились в тех же буржуа, провозгласив в своей программе задачу догнать и перегнать Америку по производству мяса-молока на душу населения. Но это случилось гораздо позже, через 70 лет после выхода в свет цитированной леонтьевской статьи. Да и в наши дни этот спор далеко не окончен.
Подводя итоги, подчеркнем, что перспектива христианской метаистории — это всегда новизна непрерывного творения, а не наличность факта. «Органическая» типология Н.Я. Данилевского имеет все права на существование и, по существу, верна, но она связана скорее с эмпирической данностью, чем со свободной, и потому всегда проблемной духовной заданностью. Со своей стороны, эсхатологически настроенная мысль К.Н. Леонтьева обнаруживала в русском вероисповедном кругозоре не только соблазны «розового христианства» (общие у него с Европой), но и прямую угрозу явления антихриста, да ещё и раньше, чем у других, более умеренных в своих отношениях к замыслу о человеке народов. «Русскую жизнь испортили хорошие книги»9, заметил в своё революционное время В.В. Розанов. Однако эти книги символизировали собой тот самый глубинный Логос, который оказался сильнее предсказанного Леонтьевым антихриста, и привел Россию в пасхальные дни 1945 года к победе над оккультным нордическим рейхом, то есть над самой страшной демонической силой, угрожавшей ей — и всему миру — в новейшей истории. Тот же Логос определяет и нынешние напряженные отношения России с постхристан-ским Западом, стремительно летящим в трансгуманистический ад.
Список литературы Н.Я. Данилевский и К.Н. Леонтьев: новая актуальность
- Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991.
- Леонтьев К.Н. Письма отшельника // Восток, Россия и славянство: в 2 т. Т. 1. М.: Типолитография И.Н. Кушнерева и Ко, 1885. С. 261-276.
- Леонтьев К.Н. Средний европеец, как идеал и орудие всемирного разрушения // Леонтьев К.Н. Собрание сочинений. Т.6. М.: Издание В. М. Саблина, 1912. С. 1 - 80.
- Леонтьев К.Н. Над могилой Пазухина // К. Леонтьев, наш современник. СПб.: Изд-во Чернышёва, 1993. С. 140-151.
- Пушкин А.С. О втором томе "Истории русского народа" Н. Полевого // Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 6. М.: ГИХЛ, 1962. С. 32-324.
- Розанов В.В. С вершины тысячелетней пирамиды (Размышление о ходе русской литературы) // Розанов В. В. Сочинения. М: Советская Россия, 1990. С. 448-465.
- Хомяков А.С. России ("Тебя призвал на брань святую.".) // Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. Л.: Советский писатель. Лен. отд., 1969. С. 136-137.