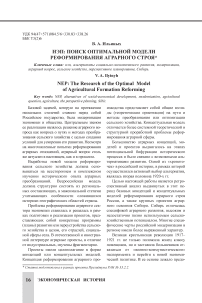НЭП: исследование оптимальной модели реформирования сельского хозяйства
Автор: Ильиных Владимир Андреевич
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Сравнительный опыт экономического развития
Статья в выпуске: 1 (16), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье выявляются объективные предпосылки обострения в СССР во второй половине 1920-х гг. аграрного вопроса. Рассматриваются выдвинутые в условиях нэпа базовые альтернативные концепции реформирования сельского хозяйства: либеральная, неонародническая и марксистская. В предметную область также входит ретроспективный анализ двух проектов аграрного освоения Сибири: Перспективного плана развития сельского хозяйства Сибирского края 1926 г. и Генерального плана развития народного хозяйства 1930 г.
Нэп, альтернативы социально-экономического развития, модернизация, аграрный вопрос, сельское хозяйство, перспективное планирование, сибирь
Короткий адрес: https://sciup.org/14723899
IDR: 14723899 | УДК: 94(47+571)084.5/6+330.83+338.26
Текст научной статьи НЭП: исследование оптимальной модели реформирования сельского хозяйства
Базовой задачей, которую на протяжении нескольких столетий ставило перед собой Российское государство, была модернизация экономики и общества. Центральным звеном ее реализации являлось решение аграрного вопроса как вопроса о путях и методах преобразования сельского хозяйства с целью создания условий для ускорения его развития. Несмотря на многочисленные попытки реформирования аграрных отношений, аграрный вопрос столь же актуален в настоящем, как и в прошлом.
Выработка новой модели реформирования сельского хозяйства должна основываться на всестороннем и комплексном изучении исторического опыта аграрных преобразований. Всероссийская модель должна структурно состоять из региональных составляющих, в максимальной степени учитывающих особенности сложившихся историко-географических областей страны.
Проблема реформирования аграрного сектора экономики ставилась и решалась в рамках подготовки и реализации проектов, представляющих собой конкретные программы (планы) развития или переустройства сельского хозяйства в целом, его отраслей, социальной сферы села. В отечественной и иностранной литературе аграрные проекты, в отличие от индустриальных, изучены фрагментарно.
Проекты имели целеполагание в форме концепций или концептуальных моделей. Концепция реформирования аграрного про- изводства представляет собой общие взгляды (теоретические ориентации) на пути и методы преобразования или оптимизации сельского хозяйства. Концептуальная модель отличается более системной теоретической и структурной проработкой проблемы реформирования аграрной сферы.
Большинство аграрных концепций, моделей и проектов выдвигалось на этапах потенциальной бифуркации исторического процесса и было связано с возможными альтернативами развития. Одной из «хроноточек» в российской истории, в рамках которой осуществлялся активный выбор альтернатив, являлась вторая половина 1920-х гг.
Целью настоящей работы является ретроспективный анализ выдвинутых в этот период базовых концепций и концептуальных моделей реформирования аграрного строя России, а также крупных проектов аграрного освоения Сибири. Сибирь отличалась спецификой аграрного развития, высоким и недостаточно полно используемым сельскохозяйственным потенциалом. Многие специфические черты российской модернизации в регионе имели более выраженный характер.
Великая крестьянская революция 1917– 1921 гг. не только положила конец классу помещиков, но и заставила большевиков отказаться от «военно-коммунистического» эксперимента и перейти к новой экономической политике. В ее основе лежало предо-
Статья подготовлена в рамках проекта Президиума РАН № 33.2.2.
ставление крестьянам свободы хозяйствования на своей земле и свободы распоряжения произведенной продукцией. При этом существовали достаточно жесткие политические, налоговые и иные ограничители размеров крестьянского хозяйства. Получившие хозяйственную свободу российские крестьяне достаточно быстро восстановили посевные площади и поголовье продуктивного скота.
Несмотря на это, зерновой экспорт из СССР даже в самые урожайные годы не превышал и четверти его дореволюционного объема [6, с. 219], а в неурожайные хлеба не хватало даже для внутреннего потребления. Достигнутый в 1926–1927 гг. максимальный объем товарного производства животного масла в Сибири составлял 62 % от уровня 1913 г. [5, с. 256]. При этом коров в регионе в 1926 г. было больше, чем в 1913 г. [17, с. 41].
Базовая причина снижения уровня товарности аграрного сектора экономики заключалась в изменениях организационнопроизводственной структуры сельского хозяйства. Ликвидированные в ходе социальных катаклизмов рубежа 1910–1920-х гг. высокотоварные помещичьи и крестьянские предпринимательские (кулацкие) сменили мелкотоварные крестьянские хозяйства.
В Сибири численность и удельный вес зажиточных крестьянских хозяйств по сравнению с дореволюционным периодом существенно снизились, а основными производителями молока стали малокоровные хозяйства, в значительной степени ориентирующиеся на личное потребление. В 1916 г. к товарным (по молоку) относилось 43 % крестьянских дворов Юго-Западной Сибири (3 и более коров на хозяйство), в 1928 – 30 %, к полутоварным (2 коровы) в 1916 г. – 22, в 1928 г. – 30%; к преимущественно потребительским (1 корова) в 1916 г. – 26 %; в 1928 г. – 34 % [8, с. 143; 14, с. 291]. Еще более заметно снизилось количество многокоровных дворов среди членов сибирской молочной кооперации. В 1907 г. 46,5 % из них имело от 4 до 9 коров, а 11,1 % – 10 коров и более, в 1928 г. такое же количество коров имело 14,7 и 0,5 % дворохозяйств соответственно [4, с. 267].
Замедление темпов развития аграрной экономики в середине 1920-х гг. наглядно продемонстрировало, что нэп не обеспечивает решения задач модернизации страны. Перед властью и обществом встала проблема выбора пути дальнейшего развития сельского хозяйства и оптимальных методов его реформирования. В рамках решения данной задачи были выдвинуты три базовых варианта решения аграрного вопроса: либеральный, неонароднический и марксистский.
Наиболее последовательно либеральные взгляды на перспективы развития аграрного сектора российской экономики сформулировал Н. Д. Кондратьев, который считал, что «измельчание» хозяйств приводит «к замедлению роста товарности и процесса накопления и вследствие этого к замедлению реорганизации сельского хозяйства». Более высокая производительность труда, товарность и степень накопления капитала достигается в крупных, по существу фермерских, хозяйствах, широко применяющих наемный труд. В них интенсивно формируются финансовые ресурсы, которые используются их владельцами для интенсификации производства и внедрения агротехнологических новаций. Более того, из крупных хозяйств можно в известных пределах черпать ресурсы как для материальной помощи беднейшим слоям населения деревни, так и для развития промышленности. В то же время беднота создает надежную базу для пополнения рядов сельскохозяйственных и промышленных рабочих, что также необходимо для развития народного хозяйства [9, с. 138–140].
Исходя из преимуществ крупных крестьянских хозяйств, Н. Д. Кондратьев предлагал снять налоговые и иные экономические и административные ограничители с пределов их роста. Непременными условиями устойчивого поступательного развития сельского хозяйства он также считал устранение диспропорций между производством средств производства и потребления отказ от директивных методов регулирования экономики в пользу рыночных, вовлечение земли в товарообмен [11; 16, с. 281].
Аграрники-марксисты также разделяли тезис о превосходстве крупного хозяйства над мелким. Однако применение наемного труда как условия увеличения масштабов сельхоз-производства было для них абсолютно неприемлемым. В связи с этим они предлагали путь производственной коллективизации деревни. Коллективизация, т. е. ликвидация индивидуальных крестьянских хозяйств и их объединение в «крупные коллективные», по мнению марксистских теоретиков, позволяла широко внедрить в сельское хозяйство новейшие технические достижения (трактора с соответствующим шлейфом орудий, комбайны и другие уборочные машины, доильные аппараты, кормораздатчики, инкубаторы и т. п.), превратить аграрный труд в разновидность индустриального и за счет этого резко повысить его производительность. Не менее, а может, более важным фактором роста производительности труда в коллективных хозяйствах должно стать его освобождение от эксплуатации [2, с. 558; 15, с. 118; 20, с. 130].
Принципиально отличный от двух вышеупомянутых путь развития сельского хозяйства предлагался в концептуальной модели, разработанной представителями так называемого организационно-производственного направления российской аграрной науки («неонародники»), наиболее видным представителем которого являлся А. В. Чаянов. Он считал, что наиболее устойчивой, общественно значимой и социально справедливой формой организации сельхозпроизводства являются не крупные фермерские, а семейнотрудовые (не использующие, как правило, найм рабочей силы) крестьянские хозяйства.
По мере вовлечения в товарное производство подобные хозяйства объединяют (кооперируют) усилия по осуществлению тех операций аграрно-производственного цикла, выполнение которых в рамках каждого из них неэффективно. Это сбыт, снабжение, переработка, мелиорация, семеноводство и т. п. На этой базе создаются соответствующие специализированные (по терминологии А. В. Чаянова, «вертикальные») кооперативы. Кооперированию не подлежат лишь не- посредственное выращивание сельскохозяйственных культур и животных.
Данные отрасли должны всецело остаться в рамках индивидуального крестьянского хозяйства, поскольку их кооперирование (т. е. создание полных производственных или «горизонтальных» кооперативов) нецелесообразно и неэффективно. Более того, производственная коллективизация, которая ликвидирует семейно-трудовые хозяйства, ведет к своеобразному раскрестьяниванию деревни, несущему негативные социальные последствия и для сельского хозяйства, и для страны в целом. Не менее разрушительные последствия для деревни и страны в целом несет капиталистическое раскрестьянивание.
Идеальную же форму будущего аграрного устройства России А. В. Чаянов, как и другие представители организационнопроизводственной школы, видел в сочетании семейно-трудовых хозяйств с их всесторонним и комплексным кооперированием по вертикальному принципу (теория «кооперативной коллективизации») [24–26].
Реорганизация сельского хозяйства на кооперативных началах должна в обязательном порядке сопровождаться созданием благоприятных общеэкономических условий для поступательного развития аграрного производства (поддержание выгодного для деревни соотношения сельскохозяйственных и промышленных цен, умеренное налогообложение, организация экспорта и т. п.), а также оказанием масштабной и комплексной организационно-финансовой помощи крестьянским хозяйствам (организация ма-шиноснабжения, развитие и удешевление кредита, землеустройство, создание системы агрономического и зооветеринарного обслуживания и т. п.).
Если говорить о перспективности трех вышеуказанных альтернатив, то наиболее отработанным в общественной практике мировой цивилизации был первый путь решения аграрного вопроса. Развитые страны Запада, аграрный строй которых базировался на высокоразвитом капиталистическом фермерском хозяйстве, доказали его эффективность.
Однако этот путь был чреват повышением социального напряжения в деревне и являлся абсолютно неприемлемым для большевистского руководства страной по идеологическим соображениям.
Второй вариант, на первый взгляд, был достаточно прагматичным, но его теоретиками не были отработаны проблемы выбора оптимальных методов коллективизации и стимулов труда. Кроме того, индустриализация сельского хозяйства «сверху» требовала значительных капиталовложений со стороны государства. Модель, предлагаемая теоретиками организационно-производственной школы, в полной мере учитывала общинные традиции русского крестьянства, которые использовались не для консервации аграрных отношений, а для их прогрессивного преобразования, а также основывалась на ресурсо- и энергосберегающих технологиях и позволяла сохранить в деревне социальную стабильность и социокультурную преемственность. В то же время ее реализация также была достаточно капиталоемкой.
Описывая теоретические построения представителей либерального и неонарод-нического направлений отечественной экономической науки, мы используем прием их аналитической сепарации от элементов политического камуфляжа, который был вполне объяснимой реакцией на господство идеократического большевистского режима. Так, Н. Д. Кондратьев публично заявлял, что «с точки зрения общих задач экономической политики советской власти наиболее желательный путь [реорганизации сельского хозяйства] лежит через производственную кооперацию мелких и мельчайших хозяйств». Однако в силу того, что на данный момент материально-технические предпосылки для проведения коллективизации отсутствуют и на их создание «потребуется очень длительное время», на повестке дня стоят «другие пути и методы развития производительных сил сельского хозяйства» [9, с. 138].
Помимо трех базовых («чистых) концепций реформирования аграрного строя, существовали их вариации, в том числе содержа- щие элементы эклектики [3, с. 217–228]. В рамках каждого из основных направлений российской экономической мысли имелись различия в подходах и интерпретациях. В то же время представители противоположных идеологических лагерей, дискутируя по одним вопросам, высказывали сходные взгляды по другим.
И либералы, и многие марксисты разделяли взгляды А. В. Чаянова на роль кооперативного строительства в реорганизации сельского хозяйства. Общепризнанной в историографии является точка зрения, согласно которой знаменитая статья В. И. Ленина «О кооперации» написана под влиянием чаяновской концепции. Ставка на развитие «вертикальной» кооперации являлась одной из составных частей аграрной политики большевистского режима в годы нэпа. Н. Д. Кондратьев заявлял, что основным путем реорганизации сельского хозяйства является кооперирование крестьянства «на почве сбытовых и снабженческих функций, на почве общего пользования машинами и переработки продуктов» [9, с. 138]. В то же время и либералы, и марксисты резко критиковали мнение А. В. Чаянова о социальных и экономических преимуществах трудового (по мнению его оппонентов, «мелкого») крестьянского хозяйства.
Оставляя за рамками проводимого в настоящей работе анализа варианты базовых концепций аграрного реформирования, позволим себе краткий комментарий так называемой бухаринской альтернативы, под которой в историографии подразумеваются взгляды Н. И. Бухарина, публично высказанные им во второй половине 1920-х гг. Он действительно выступал за экономические методы регулирования сельской экономики, против форсированной коллективизации, а его видение организационно-производственной перестройки аграрной экономики во многом повторяло основные положения чаяновской теории «кооперативной коллективизации».
В то же время Бухарин, оставаясь марксистом, рассматривал развитие кооперации не как самоцель, а как средство построения крупного коллективного сельского хозяйства. Его дискуссии с однопартийцами касались не основного содержания, а темпов социалистического преобразования сельского хозяйства. Кроме того, Н. И. Бухарин являлся одним из архитекторов созданной к концу 1920-х гг. квазирыночной экономики, которая привела к хлебозаготовительному кризису 1927– 1928 гг. Предлагаемые им «экономические» методы регулирования сельской экономики представляли собой набор административных мер, в том числе директивное ценообразование. В целом же, оценивая «бухаринскую альтернативу», мы считаем, что она была направлена не на реформирование существующего аграрного строя, а на его консервацию.
Выбор путей развития аграрного сектора экономики в регионах реализовался в рамках перспективного планирования, обращение к которому исходило из большевистских установок на внесение плановых начал во все отрасли экономики. В Сибири первый Перспективный план развития сельского хозяйства края был подготовлен специалистами крайземуправления и опубликован в 1926 г. Предлагалась программа превращения Сибири в течение последующей четверти века в «напоминающий собой Канаду» [18, с. 7] район сельского хозяйства, имеющий преимущественно экспортный характер. Аграрная сфера мыслилась основой экономики региона. На удовлетворение ее нужд следовало ориентировать новое промышленное и транспортное строительство.
Основной статьей сибирского сельскохозяйственного экспорта вновь, как и до революции, должно было стать животное масло, а аграрное производство в связи с этим приобретало преимущественно молочно-масляное направление. Агротехнологической основой переориентации сельского хозяйства региона с утвердившейся к середине 1920-х гг. зерновой специализации на молочно-масляную называлась разработанная известным российским почвоведом академиком В. Р. Вильямсом травопольная система земледелия, повышение плодородия почв в которой достигается за счет крупномасштабного (до
50 % пашни) внедрения в севообороты посевов однолетних и многолетних трав. Травополье должно было заменить господствующую в основных сельскохозяйственных районах Сибири паро-залежную систему и не допустить сползания сибирского земледелия к безнадежно к тому времени устаревшему трехполью. Помимо радикального решения кормового вопроса, для животноводства травопольная система земледелия позволяла наладить широкомасштабное и стабильное производство льна и пшеницы твердых сортов, которым также придавалось важное экспортное значение.
В качестве социальной базы и основного объекта реконструкции аграрного сектора экономики в Перспективном плане рассматривались семейно-трудовые крестьянские хозяйства, каждое из которых предполагалось довести до разработанных для каждого из выделенных авторами плана пяти природногеографических районов края оптимальных организационно-хозяйственных параметров. Так, оптимальное крестьянское хозяйство Западносибирского лесостепного района состояло из 5 человек, в том числе 2 трудоспособных, 1 «полутрудоспособного» (подросток). Под девятипольный севооборот, 4 поля которого занимали многолетние сеяные травы, отводилось 13,5 десятины. Еще 1,5 десятины занимал трехпольный приусадебный севооборот. Хозяйство содержало 2 рабочих лошадей, 3 продуктивных коров, 4 овец, свиноматку с 3 поросятами для откорма до шестимесячного возраста, 15 кур [18, с. 99]. Расчетные размеры хозяйств для других районов отличались от вышеприведенного незначительно. Оптимальные хозяйства всех районов считались трудодостаточными, и лишь в Ойротской автономной области (Горный Алтай) предполагалось небольшое использование наемной рабочей силы.
Переход к многопольным севооборотам в рамках традиционной многодворной сибирской общины был затруднен. Помехами являлись возможность передела крестьянских наделов, их чересполосица и отдаленность от деревни. Выходом из положения, по мне- нию авторов Перспективного плана, могло стать расселение общины на мелкие поселки, оптимальные размеры которых составляли от 10 до 30 дворов в зависимости от местных природно-географических условий. В рамках поселков крестьяне получали постоянные и не подлежащие переделу земельные участки – отруба. В их совместном владении оставались выгон и источники водоснабжения. Кроме того, они объединялись в поселковые товарищества, которым принадлежали животные-производители и сельхозмашины: многолемешные плуги, сеялки, сенокосилки, конные грабли, жатки, молотилки, веялки и т. п. Более сложная техника сосредоточивалась в кооперативных прокатных пунктах. Менее сложный инвентарь (плуги, бороны, телеги, сани и т. п.) оставался в индивидуальных хозяйствах.
Существенное место в Перспективном плане отводилось кооперации, ей надлежало сыграть решающую роль в организационнотехнологической перестройке аграрного производства. Основным направлением развития кооперации становилась ее специализация. Если во время составления Перспективного плана сельскохозяйственная (кредитная) кооперация одновременно выполняла ссудные, товаропосреднические, сбытовые, агрикультурные и производственные функции, то в будущем каждую из этих операций следовало передать отдельным видам кооперации. В итоге крестьяне становились членами не только поселковых, но и кредитных, специализированных закупочно-сбытовых, перерабатывающих (прежде всего маслодельных), мелиоративных, машино- и товароснабженческих, специализированных семеноводческих, племенных и других кооперативов.
Наряду с индивидуальными крестьянскими хозяйствами, объединенными в специализированные виды кооперации, определенное, но достаточно скромное место в будущей системе аграрного производства региона должны были занять коллективные и государственные сельхозпредприятия. Колхозы, призванные объединить беднейшие и неспособные к самостоятельному хозяйствованию слои деревни, предполагалось специализировать на семеноводческой и племенной работе. При этом существующие на момент составления Перспективного плана коммуны планировалось перевести на устав сельхозартели с целью создания материальных стимулов к труду. Функции семеноводства и племенного животноводства возлагались и на совхозы. Помимо этого, совхозам надлежало заниматься коневодством для армейских нужд и мериносовым овцеводством.
Массовая перестройка крестьянских хозяйств требовала от государства значительных капиталовложений. Однако их размеры можно было существенно снизить за счет установления выгодного для сельских товаропроизводителей соотношения цен на промышленные и сельскохозяйственные товары. Это создавало возможность крестьянам самим заработать значительную часть средств, необходимых для реорганизации хозяйства. Авторы Перспективного плана также призывали снизить тяжесть налогообложения деревни и ввести систему льгот для реорганизуемых хозяйств. Причем средства, «изъятые по необременительному налогу», должны в первую очередь рационально расходоваться «на мероприятия по укреплению и развитию сельского хозяйства» [17, с. 50].
Перспективным планом также предусматривалась широкая программа индустриализации аграрного сектора экономики Сибирского края путем строительства предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, необходимых для подработки и глубокой переработки как экспортных, так и предназначенных для внутрирегионального потребления сельхозпродуктов.
В итоге к началу 1950-х гг. планировалось увеличить по сравнению с достигнутым в 1925–1926 гг. уровнем посевные площади в 4,4 раза (почти наполовину за счет сеяных трав), посевы пшеницы – в 2,2, поголовье крупного рогатого скота – в 1,2, коров – в 2,2, валовое производство зерновых – в 2,1, льноволокна – в 11,7, молока – в 2,5 раза.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что авторы Перспективного плана опирались на концептуальную модель реформирования сельского хозяйства, разработанную ведущими представителями организационно-производственной школы российской аграрной науки, последователями которой были ведущие специалисты Сиб-крайземуправления. В то же время они были вполне самостоятельными при выборе наиболее оптимальной специализации сельского хозяйства региона и его агротехнологической основы.
Однако их выбор разделялся далеко не всеми. Сомнения в целесообразности широкого внедрения в Сибири травополья были высказана рядом специалистов Наркомзема, включая А. В. Челинцева [7, с. 100]. Дискуссионным в 1920-е гг. был и вопрос о месте зернового хозяйства в структуре аграрного производства региона.
-
Н. Д. Кондратьев резко критиковал методику составления Перспективного плана, считая, что в нем отсутствуют доказательства того, что в итоге будут достигнуты запроектированные объемы производства сельхозпродукции, запланированный уровень доходности. При этом не берутся в расчет возможные форсмажорные обстоятельства. Будущая модель аграрного производства рассчитывается на основе условных цен и норм, условной, но не мотивированной урожайности и продуктивности и т. п. [10, с. 17–18]. В целом он воспринимал сибирский план как образец типичного для периода 1920-х гг. (впрочем, как и для всего советского периода) телеологического планирования (от греч. teleos «цель»), пренебрегающего научными методами доказательства возможности достижения поставленной цели. Присутствовали в Перспективном плане и элементы «прожектерства», ярко подмеченные в сатирическом произведении А. Платонова «Город Градов».
В то же время позицию авторов Перспективного плана по вопросам определения места аграрного производства в экономике региона, выбора специализации сельского хозяйства и агротехнологической основы его реорганизации разделяли руководители партийных и советских органов Сибирского края. Не вы- зывала у большевистских лидеров края идиосинкразии и ставка Перспективного плана на развитие не коллективного, а индивидуального крестьянского хозяйства, которая в 1922– 1925 гг. в целом соответствовала тактической линии Коммунистической партии в аграрнокрестьянском вопросе. Реализация «чаянов-ской» концептуальной модели развития сельского хозяйства в Сибири осуществлялась не только в перспективном планировании, но и в рамках текущего агрономического обслуживания деревни [1, с. 140].
Однако на XV съезде ВКП (б), принявшем курс на производственное кооперирование сельского хозяйства и усиление борьбы с кулачеством, теоретики организационнопроизводственной школы российской аграрной науки подверглись резкой критике. Вслед за этим обвинение в проведении антипартийной линии и прямом пособничестве кулаку выдвинули и против авторов Перспективного плана. В конце 1920-х гг. последовало их устранение из органов управления сельским хозяйством, а затем и политические репрессии.
На рубеже 1920–1930-х гг. большевистский режим перешел к осуществлению второго из вышеперечисленных вариантов решения аграрного вопроса. В рамках его реализации был разработан опубликованный в начале 1930 г. Генеральный план развития народного хозяйства Сибири, составной частью которого была программа развития сельского хозяйства региона [12].
Составители Генерального плана 1930 г. придерживались в целом аналогичных с авторами Перспективного плана 1926 г. взглядов на определение места и роли, которую в перспективе должен был занять аграрный сектор Сибири. В общесоюзном и мировом разделении труда ей отводилась роль производителя и поставщика ценной сельскохозяйственной продукции. Основными статьями аграрного производства и экспорта должны были стать животное масло, пшеница и лен. Неизменным оставался и выбор в пользу травопольной системы земледелия как основы агротехнологической реконструкции сельского хозяйства Сибири. Однако в Генеральном плане предусматривались более усовершенствованные типы севооборотов, в которых плодородие восстанавливалось за счет не только сеяных трав, но и более широкого внедрения пропашных культур и применения минеральных удобрений.
Более существенной была разница в темпах развития аграрного сектора экономики. Запроектированные в Генеральном плане количественные показатели развития сельского хозяйства, во-первых, существенно превосходили аналогичные показатели Перспективного плана 1926 г. (по общей посевной площади – в 1,7 раза, по площади посева пшеницы – в 2,3, по поголовью крупного рогатого скота – в 3,0, по валовому сбору зерновых – в 2,2, льна – в 2,0, производству молока – в 4,0 и масла – в 3,2 раза), а во-вторых, достичь их предполагалось на 10 лет раньше.
Гарантией возможности многократного увеличения производственного потенциала региона назывался социализм, построение которого рассматривалось и как основное средство, и как конечная цель Генерального плана. Как указывалось во введении к его опубликованному тексту, «социализм – это высокий уровень потребления, обусловленный высоким уровнем развития производительных сил, а главное – это такой социальный срой, который обеспечивает дальнейшее стремительное развитие производительных сил, рост власти человека над природой, рост благосостояния человека» [12, ч. 1, с. 4].
Непременным условием построения социализма в деревне называлась ее производственная коллективизация, которую предполагалось завершить уже к концу первой пятилетки. К концу второй пятилетки сельское хозяйство региона должно было представлять из себя систему агро-индустриальных комбинатов (АИКов), способствующих существенному наращиванию производительности аграрного труда и его превращению в разновидность индустриального.
АИК, по мысли его проектировщиков, представлял собой объединение хозяйственных ячеек в виде колхозов, совхозов и пере- рабатывающих предприятий, обладающих совместной управленческой, энергетической, транспортной и иной инфраструктурой. Каждый комбинат имел специализацию, в целом соответствующую специализации сельскохозяйственного района, на территории которого он находился. Всего в Генплане было выделено 18 сельскохозяйственных районов. От направления аграрного производства зависели оптимальные размеры АИКа. Так, те из них, что специализировались на производстве зерновых, были значительно больше молочных. Всего на территории края предполагалось создать 173 агроиндустриальных комбината.
К середине 1930 г. специалисты сельхоз-секции Сибплана разработали пять подробных проектов агроиндустриальных комбинатов, которые рассматривались как типовые [13, с. 72–85].
-
1. Шипуновский АИК Рубцовского округа. Ведущая отрасль хозяйства – производство пшеницы. На ее отходах – птицеводство. В севообороте в качестве пропашной культуры – соя. Отходы ее переработки, сеяные травы, окультуренные сенокосы и естественные выпасы создают кормовую базу для разведения крупного рогатого скота мясного направления. Менее продуктивные пастбища предназначены для шерстно-мясного овцеводства. Общая площадь земельных угодий – 800 тыс. га. Организационно АИК состоит из базового зерносовхоза, 7 крупных колхозов, птицеводческого и овцеводческого хозяйств. На центральной усадьбе совхоза, расположенной на железнодорожной станции, сосредоточивались большое мельпредприятие, зернохранилище, маслоперерабатывающий (соевый) завод, холодильник, электростанция и ремонтный завод (отдельные мастерские строятся и в колхозах).
-
2. Маслянинский льно-молочной АИК Новосибирского округа. Ведущая отрасль – льноводство. Лен занимает 25 % посевных площадей. В севооборотах помимо льна – клевер и пропашные (50 %), которые создают кормовую базу для молочного животноводства. Молоко перерабатывается в масло, а
- отходы в виде обрата идут на корм свиньям. На территории АИКа – 5 совхозов и 15 колхозов. Его промышленный и энергетический центр – базовый совхоз в с. Маслянино, где находятся льнозавод, бумажная фабрика, работающая на отходах от льна, заводы по производству животного и растительного масла, бекона, электростанция, крупное ремонтное предприятие. Отдельные хозяйства имеют молочные и свиноводческие фермы, сливко-отделения, машинный парк, небольшие ремонтные мастерские.
-
3. Еланский АИК Барабинского округа. В его составе 3 совхоза и 8 колхозов. Ведущая отрасль – производство молока, которое перерабатывается на мощном маслозаводе в масло, сгущенное молоко и сухой обрат. Растениеводство работает почти исключительно для нужд молочного хозяйства (производство кормов).
-
4. Прокопьевский АИК Кузнецкого округа. Специализируется на производстве молока и овощей для снабжения работников промышленных предприятий и шахт Кузбасса. Пашня разделена на огородно-овощные севообороты. В базовом совхозе предусмотрена мощная теплица, там же крупный молокоперерабатывающий завод, на который молоко с животноводческих ферм поступает в свежем виде. АИК объединяет 3 совхоза и 7 колхозов.
-
5. Онгудайский совхозно-колхозный комбинат Ойротской автономной области. Ведущая отрасль – мясо-шерстное животноводство экстенсивного типа. Вспомогательные отрасли – производство зерна в долинах и молока с его переработкой в сыр. Комбинат не имел в названии термина «индустриальный», поскольку произведенную там продукцию предполагалось перерабатывать на предприятиях, находящихся за его пределами. Девять колхозов, входящих в Онгудайский комбинат, объединялись вокруг головного совхоза на основе общего планирования, управления, снабжения и сбыта. Совхоз, осуществляющий централизованное агро, вет- и ремонтное обслуживание колхозов, помимо этого, специализировался на производстве концен-
- трированных кормов, интенсивном откорме и племенном деле.
В целом в Генеральном плане развития народного хозяйства Сибирского края намечалась грандиозная программа нового индустриального, агропромышленного и транспортного строительства. К концу 1930-х – началу 1940-х гг. Сибирь должна была превратиться в регион с имеющей глобальное значение высокоразвитой экономикой, важной составной частью которого являлось интенсивное сельское хозяйство, имеющее преимущественно экспортный характер.
Однако грандиозным планам наращивания сельскохозяйственного производства на базе АИКов не суждено было сбыться. Отчасти это связано с самой методикой планирования. Генеральный план являлся еще более ярким, чем Перспективный план 1926 г., образцом телеологического планирования, основное содержание которого сводилось к формулированию какой-либо «великой» цели при отсутствии научных доказательств возможности и реальных средств ее достижения.
Реальные темпы, приемы и результаты коллективизации деревни оказались далеки от предполагаемых. Ставший следствием форсированной коллективизации кризис сельского хозяйства привел к отказу от идеи агроиндустриальных комбинатов. Материальная, техническая и политическая невозможность в создавшихся условиях соединения сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в рамках АИК получила идеологическое объяснение: партия отказалась от их строительства, поскольку в идее АИК были заложены «политические ошибки, заключающиеся в основном в грубом нарушении принципа самостоятельности колхозов и совхозов, в гигантомании, в перепрыгивании через важнейший этап социалистического строительства – этап объединения мелких крестьянских хозяйств в артель-село» [23, с. 9]. На планирование АИК навесили ярлык «маневров врагов» с целью ликвидации колхозов и совхозов.
Антипартийной объявлялась и концепция необходимости перехода аграрного производства Сибири на животноводческую специализацию. Ведущей его отраслью на ближайшую и более отдаленную перспективу провозглашалось зерновое производство [21]. Досталось и травополью, которое предполагало значительное увеличение площадей, занятых сеяными травами, в основном за счет сокращения прироста посевов зерновых. А это, по мнению оппонентов «травяного шаблона», противоречило поставленной Коммунистической партией задаче: разрешить в основном зерновую проблему в Союзе и в крае. Исходя из этого травопольная система земледелия стала рассматриваться как агро-технологическая диверсия, направленная на срыв социалистического строительства [23].
Естественно, что проектировщики АИКов врагами колхозного строительства не были, а искренне верили в безграничные возможности социализма. Реальные же возможности социализма в аграрной сфере в конкретно исторических условиях нашей сраны оказались ограниченными. Приблизиться к осуществлению заложенной в Генеральном плане 1930 г. идеи социалистической агропромышленной интеграции удалось только в 1980-е гг. Однако уже в начале 1990-х гг. пришедшие к власти в России сторонники радикальных экономических и политических реформ решили отказаться от социалистической модели функционирования сельского хозяйства в пользу либеральной. При этом ее исполнение на практике вновь соответствовало крылатой фразе «Хотелось как лучше, а получилось как всегда».
Список литературы НЭП: исследование оптимальной модели реформирования сельского хозяйства
- Аграрные преобразования и сельское хозяйство Сибири в ХХ веке: Очерки истории. Новосибирск: Ин-т истории СО РАН, 2008. 308 с.
- Аграрные проекты. М.: РОССПЭН, 2010. С. 558-559.
- Бауфал А.М., Горюшкин Л.М. и др. Материалы переписи 1916 г. по Томской губернии (из опыта обработки на ЭВМ). Новосибирск: ИИФиФ СО АН СССР, 1969. 306 с.
- Есиков С.А. Российская деревня в годы нэпа. К вопросу об альтернативах сталинской коллективизации (по материалам Центрального Черноземья). М.: РОССПЭН, 2010. 246 с.
- Иванов Б.В. Осуществление ленинского кооперативного плана в Сибири (1920-1927 гг.). Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 1977. 342 с.
- Ильиных В.А. Государственное регулирование сельскохозяйственного рынка Сибири в условиях нэпа (1921-1928 гг.). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. 284 с.
- Ильиных В.А. Коммерция на хлебном фронте (Государственное регулирование хлебного рынка в условиях нэпа. 1921-1927 гг.). Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1992. 224 с.
- Ильиных В.А. Перспективные планы сибирских земельных органов середины 1920-х гг. как источник изучения аграрных и кооперативных концепций периода нэпа//Кооперация Сибири в XX в.: теория, историография, источники. Вып.2. Новосибирск: б.и., 1996. с.90-109.
- Итоги 10% выборочного обследования отдельных хозяйств в 1928 г. по Сибирскому краю. Новосибирск: Сибкрайстатотдел, 1929. 165 с.
- Кондратьев Н.Д. К вопросу о дифференциации деревни//Пути сельского хозяйства. 1927. № 5. С. 123-140.
- Кондратьев Н.Д. План и предвиденье (к вопросу о методах составления перспективных планов развития народного хозяйства и сельского хозяйства в частности)//Пути сельского хозяйства. 1927. № 2. С.
- Кондратьев Н.Д. Современное состояние народно-хозяйственной конъюнктуры в свете взаимоотношений индустрии и сельского хозяйства//Социалистическое хозяйство. 1925. № 6.
- Материалы к генеральному плану развития народного хозяйства Сибирского края. Новосибирск: Сибкрайиздат, 1930. Ч. I: Пути развития Сибирского края. 63 с; Ч. IV: Сельское хозяйство. 175 с.; Ч. IX: Экспорт. 65 с.
- Материалы к пятилетнему плану развития народного хозяйства и культурного строительства Сибирского края. Новосибирск: Сибкрайиздат, 1930. 364 с.
- Назимов И.Н. О дифференциации крестьянства//Пути сельского хозяйства. 1927. № 8. С. 112-118.
- Рогалина Н.Л. Характер восстановления аграрного производства в 1920-е гг.//Аграрное и продоволственное развитие России в ХVIII-ХХ веках: пороги безопасности. Оренбург: ОРЛИТ-А, 2008. С. 277-281.
- Сборник статистико-экономических сведений по Сибирскому краю. Новосибирск: Сибкрайстатотдел, 1927. Вып. 1: Сельское хозяйство. 476 с.
- Сельское хозяйство Сибирского края. Новосибирск: В помощь земледельцу, 1926. Вып. I: Материалы по характеристике сибирского сельского хозяйства. 259 с.
- Сельское хозяйство Сибирского края. Новосибирск: В помощь земледельцу, 1926. Вып. II: Перспективный план. 535 с.
- Ужанский С.Т. Дифференциация крестьянства//Пути сельского хозяйства. 1927. № 6/7. С. 129-136.
- Хоробрых Ф.А. К вопросу о производственной специализации и размещении сельского хозяйства Западной Сибири//Жизнь Сибири. 1930. № 9-10.
- Хоробрых Ф.А. Кондратьевщина и вопросы развития сельского хозяйства Сибири//Жизнь Сибири. 1930. № 11-12. С. 72-89.
- Хоробрых Ф.А. Основные вопросы социально-технической реконструкции сельского хозяйства//Жизнь Сибири. 1931. № 1
- Чаянов А.В. Оптимальные размеры сельскохозяйственных предприятий. М.: Новая Москва, 1922. 87 с.
- Чаянов А.В. Организация крестьянского хозяйства. М.: Кооперативн. изд-во, 1925. 215 с.
- Чаянов А.В. Основные идеи и формы сельскохозяйственной кооперации. М.: Книгосоюз 1924. 383 с.