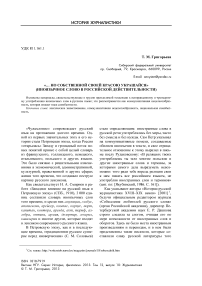"... Но собственной своей красою украшайся" (иноязычное слово в российской действительности)
Автор: Григорьева Татьяна Михайловна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История журналистики
Статья в выпуске: 10 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Изложены материалы, свидетельствующие о трудно преодолимой тенденции к неоправданному и чрезмерному употреблению иноязычных слов в русском языке; это рассматривается как коммуникативная нецелесообразность, которая лишает язык самобытности.
Лексическое заимствование, коммуникативная нецелесообразность, национальная самобытность
Короткий адрес: https://sciup.org/147218707
IDR: 147218707 | УДК: 811.161.1
Текст научной статьи "... Но собственной своей красою украшайся" (иноязычное слово в российской действительности)
«Чужесловие» сопровождает русский язык на протяжении долгого времени. Одной из первых значительных эпох в его истории стала Петровская эпоха, когда Россия «открылась» Западу и громадный поток новых понятий принес с собой целый словарь из французского, голландского, немецкого, итальянского, польского и других языков. Это было связано с решительными изменениями в экономической, административной, культурной, нравственной и других сферах жизни того времени, что создавало пеструю картину русского лексикона.
Как свидетельствует Н. А. Смирнов в работе «Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху» (СПб., 1910), 3 000 единиц составили словарь иноязычных слов того времени, и среди них амуниция , глобус , апоплексия , крейсер , компас , корпус , порт , капитан , контора , аренда , акт , тариф , алгебра , оптика , армия , дезертир , генерал , кавалерия и многие другие, которые входят в лексикон современного русского языка.
В Петровскую эпоху, как и в последующие времена, «традиционное русское суеверие перед иноверческим» (С. М. Соловьев)
стало определяющим: иностранные слова в русской речи употреблялись без меры, часто без смысла и без нужды. Сам Петр указывал на коммуникативные помехи, создаваемые обилием иноязычия в тексте, и свое отрицательное отношение к этому выразил в письме послу Рудаковскому: «В реляциях твоих употребляешь ты зело многие польские и другие иностранные слова и термины, за которыми самого дела выразуметь невозможно: того ради тебе впредь реляции свои к нам писать все российским языком, не употребляя иностранных слов и терминов» (цит. по: [Якубинский, 1986. С. 161]).
Как указывают авторы «Истории русской журналистики XVIII–XIX веков» [2001] 1, будучи официальным редактором журнала «Собеседник любителей русского слова» (орган Российской академии), директор Петербургской академии наук Е. Р. Дашкова строго следила за слогом, очищая его по мере возможности от иностранных слов и оборотов. Здесь не было места иностранным произведениям и переводам, и в нем были представлены такие писатели, которые составляли славу русской литературы того времени: Г. Р. Державин, Д. И. Фонвзин, Я. Б. Княжнин, В. В. Капнист, И. Ф. Богданович, М. М. Херасков и др.
Языковое «чужесловие» в культурном сознании того времени вызывало самые негативные оценки. «На что же нам претерпевать скудость и тесноту французскую, имеющим всякородное богатство славено-российское?» – недоумевал В. К. Тредиа-ковский (из предисловия к переводу романа «Телемахида»). Хорошо известно наставление А. П. Сумарокова из стихотворения 1769 г. «Порча языка»:
Вовек отеческим языком не гнушайся, И не вводи в него
Чужого ничего,
Но собственной своей красою украшайся.
Устремленность носителей русского языка не к родному, а к иноплеменному отмечали многие деятели русской культуры XVIII в. Протест против «языкового чу-жебесия» высказывали М. В. Ломоносов, Н. И. Новиков. За коренное русское слово выступали И. А. Крылов и А. С. Грибоедов.
А. С. Пушкин отмечал, что одной из причин, замедливших развитие русской словесности, стало «общее употребление французского языка и пренебрежение русским» [1956. С. 257]. Однако в эпоху отсутствия языка интеллектуального общения (в то время его называли метафизическим) он отстаивает право иноязычия, считая, что «просвещение века требует важных предметов размышления для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими играми воображения и гармонии», и отмечает при этом, что «ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись – метафизического языка у нас вовсе не существует; проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных [Там же]. Об этом же он пишет в письме к П. Вяземскому от 13 июля 1825 г.: «Твой слог, живой и оригинальный, тут еще живее и оригинальнее. Ты хорошо сделал, что заступился явно за галлицизмы. Когда-нибудь должно же вслух сказать, что русский метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии. Дай Бог ему когда-нибудь образоваться наподобие французского (яс- ного точного языка прозы, то есть языка мыслей)… (Соч. Т. 13. С. 187). Он не исключал также необходимость в иноплеменных словах и в случае, если они заполняют, выражаясь языком современной лингвистики, денотативные лакуны: «но панталоны, фрак, жилет – всех этих слов на русском нет».
Сознавая бедность русского языка для выражения «всего отвлеченного, всего цивилизованного, глубоко и тонко развитого», В. Белинский выступал против консервативного пуризма, однако считал употребление иностранного слова при наличии адекватного русского «оскорблением достоинств русского языка» [1981. С. 564].
Негативное отношение к «звонкому ино-язычию» отражено в дискуссиях о языке в послепушкинский период. Абстрактный , субъективный , объективный , абсолютный , индивидуальный , интеллектуальный , конкретный , реальный – эти и многочисленные другие европейские заимствования, составившие активный запас современного русского языка, в то время вызывали общественное осуждение. Лексическую «всеядность» носителей русского языка осуждали Н. Греч, Н. Погодин, Н. С. Лесков и др.
Однако заданный петровской эпохой процесс заимствования продолжался в течение многих десятилетий, сопутствующие ему выступления против практически оставались неуслышанными. Несмотря на многие протесты, в русском литературном языке периода 30–90 гг. XIX в. лексическое иноязычие составило более трети всего объема новых слов [Сорокин, 1965. С. 58], а к началу ХХ в., как указывает «Полный словарь иностранных слов» В. Смирнова (М., 1908), русский язык вобрал в себя многочисленные заимствования из разных языков: 1) финские; 2) норманские (с IX в.); 3) греческие – от Византии (IX в.); 4) еврейские – через Библию и взаимоотношения с российскими евреями; 5) тюркские (половецкие) – XI–XII вв.; 6) татарские, арабские и персидские (в период монгольского ига); 7) польские (с XVI в.); 8) латинские и немецкие (с XVII в.); 9) голландские и французские (с XVIII в.); 10) английские и итальянские (с XIX в.); 11) шведские, испанские, венгерские, турецкие, армянские, грузинские, монгольские.
Период пред- и послевоенных лет, известный в русской истории как период
«борьбы против низкопоклонства перед Западом», представляет особый интерес: не только не принимались, но и изгонялись уже освоенные языком заимствования [Кры-син, 2000. С. 143].
Смена политических и идеологических ориентиров российского общества, новый политический, экономический и культурный контекст русского языка в конце ХХ в. снова создали благоприятные условия для экспансии иноязычного слова. Иноязычный лексический поток в средствах массовой информации постсоветской России производил впечатление потопа [Костомаров, 1993]. В наибольшей степени чужесловие внедряется в газетные и журнальные тексты, отражающие сферу экономики, политики, спорта, искусства. Они отражают новые реалии и новые понятия; заполняя «денотативные и сигнификативные лакуны» [Швейцер, 1993. С. 64].
Словари иностранных слов начала ХХ в. включают 20–25 тысяч единиц. Их избыточность и коммуникативная нецелесообразность в речи снижает эффективность общения, не способствует адекватному речевому поведению и, как и в предшествующие времена, вызывает общественное неодобрение.
Ревнители чистоты русского языка по-прежнему выступают в защиту исконно русского слова, и это находит отражение в разного рода пародийных текстах, которые недалеки от действительности:
«Будем считать, что у нас состоялся своего рода брифинг , а в качестве спонсора выступает менеджер . Надеюсь, что консенсус по этому вопросу не вызывает сомнений, а импичмент и ротация нам не понадобятся. Тем более что рэкет в нашем маркетинге … не обнаружился. Другое дело – менеджмент и мониторинг . Без них, как и без конверсии , не обойтись. Остается определить рейтинг нашей встречи. Несмотря на очевидный плюрализм мнений… разговор пойдет на пользу всему истеблишменту …» [Черейский, 1989].
За право русского слова в русском языке против иноязычного порабощения выступил А. Солженицын. Он не против таких слов, как компьютер , лазер , ксерокс и других названий технических устройств, но если, считает он, «беспрепятственно допускать в русский язык такие невыносимые слова, как “ уик-энд ”, “ брифинг ”, “ истеблишмент ”
<…> “ имидж ”, – то надо вообще с родным языком распрощаться» [Солженицын, 1990] (о словаре А. И. Солженицына, его стремлении «восполнить иссушительное обеднение русского языка и всеобщее падение чутья к нему» см.: [Григорьева, 2012]).
За самобытность русского языка против «чужесловия», как говорили в XVIII в., или, как называл это хорватский энциклопедист Ю. Крижанич, «чужебесия» выступает В. Распутин. Об этом выразительно сказано в его очерках:
-
• «Меня упрекали за сибирский диалект, которым я пользуюсь якобы без меры. Но что такое диалект? Это местные прибавки к языку, заимствования от местных народов, подвернутые под нашу речь, обозначение областной предметности… Но ведь за диалект зачастую принимают сам досель-ный русский язык, его заглубленную позднейшими наростами корневую породу. И ее предлагают зарыть еще глубже: свое зарыть, а чужое, валом повалившее из “красивых” стран, принять с великими почестями» («Откуда есть пошли мои книги»);
-
• «Как только народ теряет свои предания, а еще хуже – язык свой, он превращается в “запас” другого, более сильного народа»; «В чьи руки попал лесопромышленный комплекс, понять невозможно: все эти холдинги , молдинги , болдинги с мудреными названиями для того и существуют, чтобы скрывать истину» («Моя и твоя Сибирь») ( выдел. авт. ).
Вступительное слово В. Г. Распутина к «Словарю говоров русских старожилов Байкальской Сибири» Г. В. Афанасьевой-Медведевой (в его оценке – «величественному труду» нашего времени, который «по мере трудничества, по объемам и размаху старательства на “золотоносных” сибирских землях» ни с чем не сравним») становится торжественной похвалой народному слову, могучему источнику русского языка:
-
• «основное его русло полнится, оживляется и украшается многочисленными притоками местных говоров, “истечением” его огромных словообразующих площадей и устных поэтических оазисов»;
-
• «как для экологии природы вредны грязные производства, так и экологию языка загрязняют “фабрики” чужесловия, дурно-и тупословия, против которых с охранительными законами нужна постоянная расчистка родных истоков»;
-
• в XIX в. русский язык достиг «чудного, поистине волшебного звучания <…> благодаря «открывшимся вместе с фольклором народным речевым кладовым» [Распутин, 2007. С. 7].
Говоря о коммуникативной нецелесообразности иноязычия в русском языке, следует отметить случаи его немотивированного употребления, «лингвистический провинциализм», как оценивает это Толковый словарь обществоведческих терминов. Н. Е. Яценко (1999). Выразительным примером лингвистического провинциализма может стать глагол будировать и его употребление в современной русской речи.
Будировать (от фр. bouder ) – 1) возбуждать к.-н. против другого, волновать для протеста, выражать свое неудовольствие ( Попов М. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. 1907); 2) выражать недовольство или пренебрежение к чему-либо, не доходящее до резкого протеста или борьбы, а ограничивающееся мелочными выходками (дуться) ( Павленков Ф. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. 1907); 3) выказывать дурное расположение духа; дуться; выражать недовольство ( Чудинов А. Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. 1910).
Для XIX в. характерно именно такое употребление:
-
• Приехал Макалинский и с другими офицерами. Они все как будто меня будируют , чему я очень рад ( Л. Толстой . Дневник, 1852);
-
• Очень приятно видеть, когда хорошенькая женщина будирует , но с нею я не ужился бы четыре часа, не то что четыре года ( Н. Г. Чернышевский. Что делать? 1862–1863);
-
• Скитальцам же это дело, по всем признакам, очень скоро наскучило, и они опять стали брезгливо будировать ( Ф. М. Достоевский . Дневник писателя. 1880 г. Год III. Единственный выпуск на 1880 г.);
-
• Тем-то и красна человеческая жизнь, что все в ней в свое время и на своем месте делается: сегодня нам предстоит опасность – мы чувствуем и соединяемся; завтра нет опасности – мы перестаем чувствовать и начинаем будировать ; послезавтра опять опасность – мы и опять восчувствуем, и опять соединимся ( М. Е. Салтыков-Щедрин. Наша общественная жизнь. 1863–1864).
В XX в. склонность носителей русского языка к иностранному слову, кажущемуся более престижным, чем родное, привела к немотивированному употреблению этого глагола в значении будоражить , раздражать , пробуждать . Об этом в 60-е гг. с недоумением писал К. И. Чуковский в работе «Живой как жизнь (разговор о русском языке)», но именно в немотивированном значении этот глагол выступает непременной принадлежностью нашего времени. Вот диалог премьер-министра и министра финансов в прессе начала 2000-х гг., который не вызывает у авторов публикации никаких возражений:
«По признанию коллег, нечасто можно видеть Г. Грефа столь гневным на людях. Это заметил и премьер Михаил Фрадков.
– Что сдерживает соответствующее нормотворчество? – спросил он примирительно. – Тут ведь не нужно идти в штыковую на бандитов, “а нарисовать, написать, принять”. И кто должен этот вопрос будировать?
– Будирую я, вот с этой трибуны, – ответил Г. Греф. – А вносить предложения должны соответствующие структуры.
– Давайте будировать вместе, – предложил премьер» (А. Платошкин. Остановить разгул коррупции // Рос. федерация сегодня. 2006. № 11). (Это же событие с этим же глаголом опубликовано в статье Е. Лашкина «Не надо делиться на закрытые и открытые АО, считает Греф. Бизнесмены с ним не согласны», опубликованной в Российской газете 19 мая 2006 г. Федеральный вып. № 4071.)
Редакция портала «ГРАМОТА.РУ» провела исследование того, как сегодня употребляют глагол будировать 2 , и пришла к заключению, что подлинное значение слова совершенно вытеснено его немотивированным «спутником», хотя современные словари иноязычных слов до сих пор отмечают это значение как ненормативное:
-
• «именно это обстоятельство побуждает фракцию СПС пока не будировать этот вопрос», – отметила Хакамада;
-
• Палаточный лагерь постоянно будируют заезжие экстрасенсы;
-
• …созданная им сценография настолько сильно будирует и дразнит фантазию режиссера…;
-
• Конечно, управление соцзащиты не может увеличить пенсию, но будировать этот вопрос в правительстве – просто обязано;
-
• Но всегда материалы, из которых купальники изготовлялись, будировали эволюцию и прогресс;
-
• Одновременно будируя национальное сознание идеей – пусть и иллюзорной – контроля и доминирования в космосе, президентские политтехнологи стремятся…;
-
• …в 1991 году, где, чередуя перфор-мансные практики и живописные показы, каждый четверг будировали художественную общественность новыми проектами…;
-
• Вот что меня больше всего будирует в этих девочках-цветиках;
-
• Считаете ли Вы, что ивритоязычная пресса намеренно будирует «дело о русской мафии»;
-
• Фонд «Общественное мнение» продолжает будировать наше воображение то гипотетическими президентскими, то не менее гипотетическими думскими выборами.
Хорошо известны слова В. Г. Белинского о том, что не следует опасаться ненужного наводнения иностранных слов, потому что «ненужное слово никогда не удержится в языке, сколько ни старайтесь ввести его в употребление» [1981. C. 565]. Известно и мнение многих лингвистов о тщетности пуризма, поскольку заимствования можно расценивать как один из мощных факторов развития языка, способствующих более точному выражению понятий и его совершенствованию; как следствие развития народа в умственном и культурном отношении и как результат диалога культур. Например, И. А. Бодуэн де Куртенэ считал, что «пури-фикаторские затеи, стремящиеся к очищению собственного языка от чужих слов и оборотов, сопряжены обычно с напрасной тратой времени» [1914. C. 159]. Совершенно справедливы и слова А. Г. Горнфельда о том, что «пуризм бессилен в своей наступа-тельности и наступателен вследствие своего бессилия» [1922. С. 8].
Однако когда в роли «пуристов» начинают выступать иностранцы, то это свидетельствует о серьезном нездоровье русского языка в его речевой реализации.
Наш соотечественник М. Н. Эпштейн, профессор университета Эмори в Америке, автор широко известного Проективного лексикона русского языка «Дар слова», в одном из интервью заметил, что имеющие интерес к русскому языку американские студенты приезжают в Россию, чтобы пополнить свой запас новыми русскими словами, а в действительности постоянно встречаются лишь «с искаженными созвучиями, отзвучиями, отзвуками своего собственного языка и испытывают разочарование». Естественным становится их недоумение: где же русский язык, если это только искаженный английский? Выражая тревогу о будущем русского языка, он говорит, что «место русской лингвосферы на карте XXI в. неуклонно снижается», что русский язык «забивается асфальтом нетворческих заимствованных невразумительных образований, и это естественным образом снижает интерес к русскому языку».
Об этом же свидетельствует Тим Керби, представляющий молодое поколение американцев 3. От лица своих соотечественников он заявляет, что изобилующая американизмами русская речь раздражает. Предложенный им аналог русской речи в американских обстоятельствах чрезвычайно комичен и практически, как считает он, недопустим:
Boje moj ! I bought American shtany and they were tоtal poddelka . Why is everything in SCHA so expensive? I wish I could live and to go to a real derzhava like Roosseeya . Amerika is full of assholes but in Russia everyone in so kulturno . If we would learn like Russians everything would be zashibis .
Кроме того, недовольство молодого американца вызывают такие американизмы в русской речи, как коттедж , тьюнинг , уикэнд , стринги , бриджи и множество других, которые без меры – выражаясь по-пушкински, «без чувства соразмерности и сообразности» – внедрены в русскую речь. Ему трудно понять, чем кофейная пауза хуже кофе-брейка и почему бизнес-ланч более предпочтителен, чем деловой завтрак . Этот «лексический захват» (Л. П. Якубинский) вызывает его решительное и даже, можно сказать, гневное обращение к россиянам: «Перестаньте употреблять английские слова, потому что есть много хороших русских слов. Неуместным употреблением американизмов вы не становитесь умнее».
И это воскрешает в памяти слова А. П. Сумарокова из того же стихотворения «Порча языка»: «Не надобно твоих нам новеньких музык; / Ты портишь ими наш язык». И как тут не вспомнить слова В. Н. Татищева из письма В. К. Тредиаковскому от 18 февраля 1736 г.: «Чужестранных слов наиболее са-мохвальные и никакого языка не знающие секретари и подъячие мешают, которые глупость крайнюю за великий себе разум почитают, и чем стыдиться надобно, тем хвастают». И можно добавить, что этим лишают родной язык возможности творческого обновления на основе собственных корней, использования беспредельных возможностей русского словопроизводства.
Как и в пушкинскую эпоху, «леность наша» по-прежнему «охотнее изъясняется на языке чужом».
«…BUT YOU SHOULD BE DECORATED BY YOUR OWN BEAUTY» (A FOREIGN WORD IN RUSSIAN REALITY)
Список литературы "... Но собственной своей красою украшайся" (иноязычное слово в российской действительности)
- Белинский В. Г. [Рец.] Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, издаваемый Н. Кирилловым//Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1981. Т. 7.
- Бодуэн де Куртенэ И. А. Заимствования//Русская энциклопедия/Под ред. С. А. Адрианова и др. СПб., 1914.
- Горнфельд А. Г. Новые словечки и старые слова. Пг., 1922.
- Григорьева Т. М. Наследие В. И. Даля в русской культуре на рубеже XX-XXI вв.//Вестн. Краснояр. пед. ун-та им. В. П. Астафьева. 2012. № 1. С. 253-258.
- История русской журналистики XVIII-XIX веков/Д. А. Бадалян, Л. П. Громова, М. М. Ковалева, А. И. Станько, Ю. В. Стенник и др.; под ред. Л. П. Громова. СПб., 2011.
- Караулов Ю. Н. О состоянии русского языка современности. М., 1991.
- Костомаров В.Г. Русский язык в иноязычном потопе//Рус. язык за рубежом. М., 1993. № 2. С. 18-24.
- Крысин Л. П. Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни//Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995). 2-е изд. М., 2000.
- Пушкин А. С. О причинах, замедливших ход нашей словесности//Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1956. Т. 6. C. 257.
- Распутин В. Г. В поисках берега. Повесть, очерки, статьи, выступления, эссе. Иркутск, 2007.
- Солженицын А. И. Русский словарь языкового расширения. М., 1990.
- Сорокин Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка. 30-90-е гг. XIX в. М.; Л., 1965.
- Черейский И. Разговор по существу//Лит. газета. 1989. № 41.11 окт.
- Швейцер А. Д. Контрастивная стилистика. Газетно-публицистический стиль в английском и русском языках. М., 1993.
- Якубинский Л. П. Реформа литературного языка при Петре I//Якубинский Л. П. Избранные работы. Язык и его функционирование. М., 1986. С. 159-162.