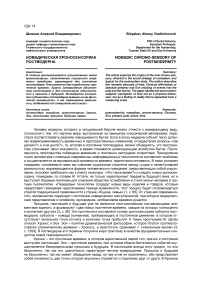Номадическая хроносенсорика постмодерна
Автор: Шляков Алексей Владимирович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 19, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается возникновение новой хроносенсорики, свойственной социальной стратегии номадизма, характерной для состояния постмодерна. Описываются два номадических прочтения времени: Хронос (утверждение абсолютного настоящего) и Эон (ускользания событийности в прошлое и будущее). Исследуется восприятие субъектами постмодерна времени не как физической размерности, а как переживания реальности, отделенной от измерительной шкалы.
Постмодерн, номадизм, хроносенсорика, хронос, эон, настоящее, прошлое, будущее, время
Короткий адрес: https://sciup.org/14937628
IDR: 14937628 | УДК: 1
Текст научной статьи Номадическая хроносенсорика постмодерна
Человек модерна, которого в сегодняшней Европе можно отнести к вымирающему виду, столкнулся с тем, что картина мира, выстроенная на принципах классической метафизики, перестала соответствовать реалиям повседневного бытия. Если в эпоху модерна субъект легко допускал взаимозаменяемость временных и пространственных изменений, отождествляя вопросы «как далеко?» и «как долго?», то, вступая в состояние постмодерна, можно обнаружить, что пространство утрачивает свою значимость, а время становится доминирующим атрибутом бытия. Протяженность пространства побеждена временем и постоянно растущими скоростями. Преодоление тысяч километров с помощью современных информационных технологий не составляет проблемы и осуществляется за минимальный промежуток времени, практически мгновенно. В таких условиях номадизм, понимаемый нами как сквозная социальная стратегия между сущим и ненаступившей реальностью, выражающаяся в формах человеческого поведения, представляющих собой ускользание, способен приблизить нас к ответу на вопрос: «Что такое время?» и создать новую хроносенсорику. Номадизм, по словам Ж. Аттали, не только характеризует предметы будущего века, но и выступает базовым понятием для описания общества потребления и стиля жизни человека в третьем тысячелетии. «Передовые технологии создадут новые виды изделий и товаров, которые предоставят гражданам недосягаемые прежде возможности, этот процесс будет сопровождаться утратой традиционной привязанности к стране, общине, семье» [1, с. 68]. От «текучей современности» человечество переходит к состоянию номадических сингулярностей, при которых модернистские представления о линейном, однородном, необратимом времени рушатся.
Прошлое, настоящее и будущее уже не являются неотъемлемыми составляющими элементами единого, а формируют «два новых прочтения времени, каждое из которых полноценно и исключает другое» [2, с. 86]. Эти прочтения и составляют основу хроносенсорики субъекта постмодерна, субъекта – номада (кочевника), пребывающего в постоянном движении, в котором отсутствуют начальная точка отсчета и конечная точка прибытия. К таким прочтениям Ж. Делёз относит Хронос и Эон. Эон – понятие древнегреческой философии, которое Платон противопоставлял ограниченному времени – Хроносу, а Аристотель сравнивал с «жизненным веком» [3, с. 1264]. В постмодерне эти термины получили иную трактовку в качестве фундаментальных концептов новой темпоральности.
Хронос – это прочтение времени, в котором единственной мерой тел, причин и состояний выступает настоящее. Эон – прочтение времени, при котором сборка бестелесных событий осуществляется беспредельными прошлым и будущим. В настоящем всегда есть предел, но оно бесконечно, так как его цикличность гарантирует вечное возвращение. Прошлое и будущее не бесконечны, так как имеют обращение назад, но при этом не ограничены, ибо представляют собой линейность, две точки которой неуклонно стремятся к отдалению друг от друга. В Хроносе происходит абсолютизация настоящего, а прошлое и будущее лишь демонстрируют относительность различия двух настоящих. В Эоне нет настоящего времени, это формальная условность для обозначения будущего и прошлого, на которые оно разделено. Хронос определяет движение тел и возникновение телесных качеств. Эон – это локус идеальных актов событийности и атрибутов. Хронос сращивается с телами, заполняясь ими. Эон выступает как поле блуждания эффектов [4, с. 217].
В Хроносе присутствует активно-пассивный импульс, в котором происходят циклические движения, зависящие от материи. В Эоне заключена нейтральность, освободившаяся от материи и совершающая ускользание в двух различных векторах одновременно: прошлом и будущем. Различие между Хроносом и Эоном иллюстрируется словами «теперь» (фиксирующим отклонение настоящего от глубины) и «вдруг» (описывающим отклонение настоящего от поверхности). Если Хронос определяет воплощенное событие в действующих телах, то само по себе событие утрачивает настоящее, подчиняясь Эону, при котором оно растекается в двух направлениях: «что-то вот-вот произойдет» и «что-то произошло». «Событие – это акт, когда никто не умирает, а всегда либо только что умер, либо вот-вот умрет в пустом настоящем» [5, с. 89]. Эон – это чистая, пустая форма времени, которая переживается в момент «вдруг». «Вдруг» – это точка, лишенная места. «Странное “вдруг” лежит между движением и покоем, находясь совершенно вне времени, но в направлении к нему и исходя от него изменяется все движущееся, переходя к покою, и все покоящееся, переходя к движению» [6, с. 458].
Онтологически «вдруг» восходит к понятию древних атомистов «клинамен», которое применялось ими для описания спонтанного отклонения атомов от заданной траектории [7, с. 299]. Клинамен не является вторичным причинением, или вторичным движением, а изначально заложен в основание бытия и предполагает отклонение от линейности (вертикальности). Это отклонение происходит за время меньшее, чем минимум непрерывно мыслимого времени. Клинамен не является проявлением ни случайности, ни неопределенности, «он манифестирует нередуци-руемую множественность причин и причинных серий, представляя собой встречу этих каузальностей» [8, с. 325]. В момент наступления клинамена время лишается глубины и растекается по поверхности в разновекторных направлениях, создавая воплощение Эона.
Момент «вдруг» выделяет из составляющих настоящее индивидов сингулярные точки, проецируя их в прошлое и в будущее. Линия, распространяющаяся одновременно и в прошлое, и в будущее, создает границу между плотью и языком, предметами и их именами. Направление Эона, устремленное в будущее, предвосхищает рождение языка, устремленность в прошлое, обращает язык к описанию состояния вещей, возникающих и исчезающих. Эти два неравных вектора времени нельзя свести только к состоянию вещей или только к предложениям: события соотносятся с состоянием вещей, а смысл – с предложениями.
Уже в индустриальную эпоху, эпоху модерна прогресс реализовывался путем захвата пространства. Для реализации пространственной экспансии время должно уметь сжиматься. Развитие высоких технологий стерло различия между «далеко» и «здесь». Как отмечал З. Бауман, «в эру программного обеспечения эффективность времени как средства приобретения ценности приближается к бесконечности с парадоксальным эффектом уменьшения ценности всех объектов в области цели» [9, с. 129].
Устранение сопротивления пространства при достижении цели создает ощущение бесконечной вместимости отдельного мгновения, что обесценивает и саму длительность времени. В социальной, экономической, политической жизни наступает «ad-hoc-кратия» [10, с. 210], то есть власть одноразовости, сиюминутности, недолговечности, что поменяло отношение индивида к труду, вещам, людям. Как традиционный кочевник, который постоянно движется вместе с точкой отсчета, растворяется в едином настоящем, так и номад постмодерна, не помня прошлого и не веря в будущее, пребывает в одном поле времени.
Постмодерн, отвергая идею времени как объективной, внешней по отношению к субъекту онтологической атрибутивности, предлагает считать его результатом прочтения и переживания движущегося субъекта – номада, в сознании которого осуществляется сборка разномоментных кадров, складывающаяся в своеобразную хронопоследовательность, которая синтезируется, реконструируется в темпоральную картину о бытии [11]. В этой картине время возможно и при отсутствии бытия: «оно невозможно как существующее и возможно как несуществующее» [12]. Таким образом, номад, являясь агентом постмодерна, испытывает переживания новой хроносенсорики, отличной от модернистской: Хронос – переживание циклического настоящего и Эон – ускользание в прошло-будущее. И если настоящее Хроноса способно ниспадать в глубину и воплощаться в формах предметности, то можно говорить и о еще одном настоящем – настоящем прошло-будущего, без которого воплощение не могло бы осуществиться. Это настоящее Эона, настоящее без толщины, время чистого действия, не дающее осуществлению погрузиться в разрушительную глубину забвения или раствориться в бесплодных грезах.
Ссылки:
-
1. Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия. М., 1993. 70 с.
-
2. Делёз Ж. Логика смысла. М., 2011. 472 с.
-
3. Всемирная энциклопедия: Философия / гл. науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. М. ; Минск, 2001. 1312 с.
-
4. Делёз Ж. Указ. соч.
-
5. Там же.
-
6. Платон. Сочинения. Т. 2. М., 1970. 654 с.
-
7. Эпикур. Письма Геродоту // Тит Лукреций Кар. О природе вещей. М., 1983. С. 292–306.
-
8. Делёз Ж. Указ. соч.
-
9. Бауман З. Текучая современность. СПб., 2008. 240 с.
-
10. Тоффлер Э. Революционное богатство. М., 2008. 569 с.
-
11. Деррида Ж. Ousia и gramme. Примечание к одному примечанию из «Sein und Zeit» // Деррида Ж. Поля философии. М., 2012. С. 52–95.
-
12. Derrida J. Donner le temps. Chicago, 1991. P. 216.
Список литературы Номадическая хроносенсорика постмодерна
- Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия. М., 1993. 70 с.
- Делёз Ж. Логика смысла. М., 2011. 472 с.
- Всемирная энциклопедия: Философия/гл. науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. М.; Минск, 2001. 1312 с.
- Платон. Сочинения. Т. 2. М., 1970. 654 с.
- Эпикур. Письма Геродоту//Тит Лукреций Кар. О природе вещей. М., 1983. С. 292-306.
- Бауман З. Текучая современность. СПб., 2008. 240 с.
- Тоффлер Э. Революционное богатство. М., 2008. 569 с.
- Деррида Ж. Ousia и gramme. Примечание к одному примечанию из «Sein und Zeit»//Деррида Ж. Поля философии. М., 2012. С. 52-95.
- Derrida J. Donner le temps. Chicago, 1991. P. 216.