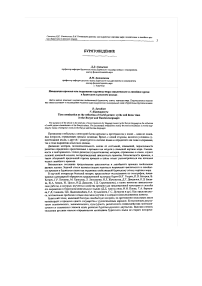Номинация времени как выражение картины мира: циклическое и линейное время в бурятском и русском языках
Автор: Санжина Д.Д., Хамаганова В.М.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Бурятоведение
Статья в выпуске: 7, 2007 года.
Бесплатный доступ
Дается анализ языкового выражения свойственной бурятскому этносу картины мира. Перечисленные номинации свидетельствуют о несовпадении членения мира посредством темпоральных слов в бурятском и русском языках.
Короткий адрес: https://sciup.org/148178230
IDR: 148178230
Текст научной статьи Номинация времени как выражение картины мира: циклическое и линейное время в бурятском и русском языках
Дается анализ языкового выражения свойственной бурятскому этносу картины мира. Перечисленные номинации свидетельствуют о несовпадении членения мира посредством темпоральных слов в бурятском И русском языках.
D. Sattzhina
К Khamaganova
Time nomination as the reflection of world picture: cyclic and linear time in the Buryat and Russian languages
The purpouse of the article is the analysis of time expression by language means in the Buryat language as the reflection of world picture characteristic of the Buryat ethnos. Hie enumerated nominations testify the non-coincidenses in world mapping by means of temporal words in the Buryat and Russian languages.
Проявление глобальных категорий бытия времени и пространства в языке - один из основных вопросов, отражающих процесс познания. Время, с одной стороны, является условием существования языка, с другой - реализуется в системе языка и определяет как план содержания, так и план выражения языковых единиц.
Движение материи, последовательность смены ее состояний, изменений, периодичность развития определили представление о времени как модели в языковой картине мира. Сменяемость и повторяемость этапов развития (существования) материи, отраженные в языке, служат основой языковой модели, воспроизводящей цикличность времени. Бесконечность времени, а также обозримый предельный отрезок времени в цикле может рассматриваться как языковая модель линейного времени.
Внеязыковое осознание представления цикличности и линейности времени свойственно разным языкам. Задачей статьи является анализ языкового выражения цикличности и линейности времени в бурятском языке как отражение свойственной бурятскому этносу картины мира.
В научной литературе большой интерес представляют исследования по этнографии, посвященные календарной обрядности традиционной культуры бурят (ИГ. Георги, П.П. Баторов, В. Котвич, Г.Р, Потанин, М. Кансалов, Л. Линховоин, Н.Л. Жуковская, Д.Г. Дамдинов, К.Д. Басаева, Ж.А. Зимин, Ж. Цолоо, Н.Д. Дашиева, Т.Д. Скрынникова), а также немногие лингвистические работы, в которых изучаются свойства времени как предикативной категории и способы его выражения в бурятском/монгольском языках (Д.Д. Амоголэнов, Н.Н. Поппе, Т.А. Бертага-ев, Г.Д. Санжеев, Ц.Б. Цыдендамбаев, Е.А. Кузьменков, Г.С. Дугарова и др.). Как представляется, поставленная проблема в языке еще мало изучена и содержит неисследованные аспекты.
Бурятский этнос, имеющий богатую самобытную историю, на протяжении нескольких веков контактирует в пределах одного государства с русскоязычным народом. Естественным результатом политического, экономического, культурного, религиозного взаимодействия монголоязычного и славянского этносов стало развитие бурятско-русского двуязычия. Высокая степень овладения русским языком современными носителями бурятского языка не стирает историче- ски сложившихся и закрепленных в языке свойств восприятия категории времени, своеобразие которого проявляется на лексическом уровне, в лексической семантике бурятского языка.
Сравнительная характеристика способов номинации временных понятий в бурятском и русском языках позволяет выявить в бурятском языке группу лексем, фиксирующих онтологическое, этнокультурологическое своеобразие осознания времени. Такие номинации отражают уникальность временной картины мира, созданной монголоязычным народом.
Опыт комплексного описания времени выявляет шесть языковых моделей или шкал (Н.А. Потаенко): шкала природных явлений; календарь; суточная шкала; циферблат; возрастная шкала; событийная шкала. Названные модели в бурятском языке представлены как лексемами, так и описательным способом.
Поскольку традиционная культура бурят связана со скотоводством, модель природных явлений отражает специфику этой деятельности. Кочевой образ жизни скотоводов воплотился в номинациях мест стоянок семьи - айл.
У современных бурят зимняя стоянка - убэлжеен - место в населенном пункте (село, деревня). Это усадьба: теплый жилой дом, хозяйственные постройки, теплые стайки для скота. Иигэкээр убэлжеендоо бусахабди “Со временем будем возвращаться на зимники”; Убэлжеенэймнай гэрэй пеэшэн ехээрутаа хаядаг болоо “Печь у зимника стала сильно дымить” (1); Маний убэлжоенкее холо бэшэ Базартан байдаг байгаа “Семья Базара жила недалеко от нашей зимней стоянки” (2).
Весенняя стоянка - хабаржаан - место, где рано появляется трава, между сопками, на припеке. Эндэкээ урагшаа хабаржаанууд байдаг кэн “Отсюда к югу были весенние стоянки”; Ха-баржаанда гарагдаха гээшэ болигдоол даа, тэрэш урданиинь байгаа “Перекочевки на весен ники теперь прекратились, то было раньше” (2).
Летняя стоянка - зукалан - предполагает место с обильной травой, естественными водопоями. Айлнууд хабартаа зукаландаа буухаяа яарадаггуй “Люди (семьи) весной не спешат селиться на летниках” (3); Зукалангай модов гэртэ Намдагтан куудаг байгаа “Семья Намдака жила в деревянном летнике” (4); Бага накамни Эгэтын дасанда дутэ унгэрее... Хажуудань -убэлжоемнай, урда захадань зукаламиай тэнжыхэй байгаа (“Детские годы мои прошли недалеко от Эгитуйского дацана... Рядом с ним был наш зимник, у южной его стороны располагались наши летние стоянки” (5).
Осенняя стоянка - намаржаан - место, расположенное ближе к зимнему дому. Жарантай-тан... намаржаанда буугаад, таба-зургаан кэеы гэрнуудые табинхай «Семья Жарантая... поселилась в осеннике, расставив пять-шесть войлочных юрт» (6).
Цикличность природных явлений отразилась в номинациях не только с темпоральным значением, но и со значением природно-календарных условий. Время сильных морозов, которое бывает в середине зимы, номинируется убэлэй нюрган “разгар зимы” (букв, “зимы спина”): эгэ-эл убэлэй нюрган байгаа “тогда был самый разгар зимы”; убэлэй нюрган ута “разгар зимы длинен”; январь кара убэлэй нюрган болоно бэшэ гу? “январь является разгаром зимы, не так ли?” (2). . /
Разгар лета, сопровождающийся жарой, называется зунай нюрган: теэд июльнай зунай нюрган болоно гээшэл даа “так июль и является разгаром лета” (2), а осенний период листопада называется шара набшаканай саг, шара набшаканай ус “время листопада, осень”: шара набшаканай саг - гое саг, би ехэ дуратайб “время листопада - красивое время, я очень люблю” (2).
В бурятских названиях месяцев также зафиксированы природно-климатические условия края: бу га кара “букв, месяц изюбра” (декабрь-январь): бу га карада, бугын эбэр унадаг “в месяц изюбра, у изюбра отпадают рога (от мороза)” (2).
Хухын дуунай кара - “месяц кукования кукушки” (май), хуа хагда кара - “месяц палевой травы” (апрель-май) олицетворяют оживление природы. Появившаяся первая зелень, используемая в пищу, определяет название “месяца лука” - мангир туухэ кара (саг) “букв, месяц (время) собирания полевого лука”: мангир туухэ саг июниин арба гараар эхилдэг “время собирания лука начинается где-то после десятого июня” (2), а макушка лета - “месяц зноя” - называется ху кара (июль-август).
В бурятском языке есть “месяц сена” убкэнэй кара; июлиин куул багаар убкэндэ оролгон бо-лодог, тиигээд тэрэ карые убкэнэй кара гэжэ нзрлэдэг байжа болоо “с конца июля начинается сенокос, очевидно, поэтому этот месяц называется месяцем сенокоса” (2); “месяц заморозков” удари кара: хюрууунаха уе август-сентябрь соо “время заморозков в августе-сентябре” (2)
В названиях гура кара “месяц диких коз” и хуса кара “месяц дикого барана” отражена более древняя хозяйственная деятельность бурят, связанная с облавными охотами - аба хайдаг (у восточных бурят) и зэгэтэ аба (у западных бурят): .. .хориин арбан нэгэн эсэгын ахалаггиа ноён Тураахи оолжэн карын арбан табанай удэр аба хайдаг хэхз гэжз захаркан юм. «.. . глава одиннадцати хоринских родов (букв, отцов) Туракин распорядился в пятнадцатый день осеннего месяца (еелжэн) провести облавную охоту” (6).
Цикличность временного круга у бурят исчисляется лунным календарем, счет времени в котором соответствует лунному году, состоящему из лунных синодических и сидерических месяцев. Поскольку лунный год не совпадает с принятым современным григорианским календарем, основанным на видимом движении Солнца, в лунном календаре ежемесячно пропускается один день забкар “промежуток, интервал; пустое пространство; щель”: энэ Парада 22-ой удэр угы, забкарлаба “в этом месяце нет 22-го числа, промежуток” (5); углеедэр забкар гу даа? “завтра будет интервал? (забкар)"; забкар удэртэ ехэ юумэ эхилдэг угы юм “в день интервала большое дело обычно не начинают” (2).
Номинация пропущенного дня месяца не имеет соответствия в выражении времени в русском языке. Другой способ сведения лунного и солнечного календаря дабхар, дабхасаха - наложение двух дней. Так, в лунном календаре в одном месяце может быть два раза использовано, например, восемнадцатое число: энэ hapada арбан найманай удэрнууд дабхасалдаба “в этом месяце дни восемнадцатого числа наложились” (5); мунеедэр дабхар (удэр) “сегодня наложение (дней)”.
Числа месяца в бурятском языке номинируются словосочетаниями с указанием формы и размера луны. По форме (фазе) луны буряты умели определять день месяца. Взглянув на луну, человек безошибочно мог сказать, какой сегодня день месяца: карын нэгэн - первый день месяца, карын хоёр - второй день месяца, карын гурбан - третий день месяца. И так до конца месячного цикла, содержащего тридцать дней. Этим объясняется положительная оценочность номинации безоблачного неба.
Исчисление дней с 1-го по 14-е число каждого месяца сопровождается прибавлением прилагательного шэнэ “новый”. Такая номинация символизирует растущую луну, что связано в сознании носителей бурятского языка с благоприятными условиями для деятельности. Числа середины месяца с 16-го по 20-е не сопровождаются значением “новый”. Это дни после полнолуния: карын арбан зургаан “шестнадцатое”, карын арбан долоон “семнадцатое”, карын арбан наймам “восемнадцатое”.
В названиях дней с 20-го до конца месяца используется определение хуушан “старый”, вербализующее убывание луны - карын хуушан “месяца старение”: карын хуугиаар ерэхэ “в конце месяца приедет"; энэ карын хуушаар сесси зарлагдаха “в конце этого месяца состоится сессия (Верховного Совета)”; январиин хуушаар Москва огиохо “в конце января поедет в Москву” (2).
В традиционной картине мира, созданной носителями бурятского языка, неделя начинается с воскресенья: нэгэ гараг - первый день недели. Дни недели не имеют специальных названий, а номинируются по счету, хотя используются и тибетские названия дней недели, что является элементом заимствования в бурятском языке.
|
Тибетские названия |
Русские названия |
|
Нима |
Солнце, воскресенье |
|
Дабаа |
Луна, понедельник |
|
Мягмар |
Марс, вторник |
|
Ьагба |
Меркурий, среда |
|
Пурбэ |
Юпитер, четверг |
|
Баасан |
Венера, пятница |
|
Бимба |
Сатурн, суббота |
Бурятские названия
Нэгэ гараг, Наран
Хоёр гараг, hapa
Гурба гараг
Дурбэ гараг
Таба гараг
Зургаа гараг, Солбон
Долоо гараг
Осознание цикла недели в бурятском языке в соответствии с трудовой деятельностью определило третий и седьмой дни как хэлтзгы “наклонный”, “кривой” или нечетный день недели. В третий день (вторник) женщины не берутся за иглу - зуу Парижа юумэ оёжо болохогуй «шить нельзя»; в седьмой день (суббота) - юумэ гэркээ гаргажа хундэ угэжэ болохогуй - нельзя ничего отдавать из дома (2). Эти дни неблагоприятные. Благоприятными же считаются тэгшэ га- раг - “ровный” день недели - второй день (понедельник), четвертый (среда), шестой (пятница). Первый (воскресенье) и пятый (четверг) дни недели воспринимаются как нейтральные дни.
В суточной шкале бурятского языка все номинации описательные: полдень - удэрэй хахад, удэрэй тэн, удын тэн; полночь - куниин хахад, Нуниин тэн; восход - наранай гараха уе: заря - уур хираан, уур сайта, закат - пара оролгон, удэшын улаан наран.
В бурятском языке понятие “сутки” номинируется составными его частями: удэр “день” и Нуни “ночь”: удэ/7 Нунигуй ажалдаа байна “и днем и ночью (круглые сутки) на работе”. Причем удэр и Нуни в этом случае теряют значение “светлая” и “темная часть времени”, а обозначают весь временной круг движения Земли вокруг оси. Гурба хоноод ерээрэй «Приходи через трое суток (через три дня)», букв, “переночевав”; Тэрэ гурба хоноод ерэхэ «Он приедет через трое суток (через три дня) (переночевав)».
Другой способ обозначения суток - посредством глагола или отглагольного существительного унжэхэ “дневать, ночевать”, унжэлгэ “дневание, ночевание”: манайда нэгэ унжоод, огиоо “побыв у нас одни сутки, уехал”; тэдээн угэрсэтэеэ унжеед лэ ябажа байна “они с огурцами через день ездят”; юу унжэжэ байха хумши - удэгиын автобусоор ерээрэй “что ты будешь ночевать - вернешься вечерним автобусом” (2).
Обозначение времени суток (шкала циферблата) в бурятском и русском языках в целом не имеет различий. Однако неопределенное время темной части суток в русской картине мира (4 часа вечера, дня. И 10, 11 часов вечера, ночи) имеет отчетливое отнесение к периоду суток в бурятском языке: удэрэй дурбэн саг «4 часа дня»; удэшын арбан саг, удэгиын арба нэгэн саг «вечером в 10, 11 часов».
Цикличность времени, выраженная названиями возрастных периодов жизни человека, в бурятском языке отличается метафоричностью номинаций. Улаан нялха ’’красный младенец”; будуун хун букв.“толстый человек”, томо хун букв, “крупный человек” или наНаа эдиНэн хун букв, “съевший свой возраст” - о повзрослевшем человеке; утэлхын далай “море старости” (о преклонном возрасте); ургажа ябаа ногоон бургааНан букв, “растущие зеленые ветки” (дети до совершеннолетия).
В традиционной бурятской культуре не фиксировался день рождения человека. С приходом Сагаалгана (Новый год по лунному календарю) каждый прибавлял себе год, что выражалось высказыванием сагаалганаар нэгэ наНа нэмэхэ “в сагаалган прибавится один год”. Использование двенадцатилетнего цикла, заимствованного из буддийского времяисчисления, у бурят нашло отражение в выделении каждого двенадцатого года жизни как рубежного наНаа оруулха “вступить в свой год”, букв, “запустить свой год”. В этот год у человека проявляются уязвимые места, поэтому регламентируется его поведение (например, не рекомендуется отправляться в дальние поездки, совершать судьбоносные деяния, поступки, напр. женитьба, замужество и др)
Периоды жизни человека в бурятском языке обозначаются описательно, используются слова с более конкретной семантикой по сравнению с русскими номинациями. Младенчество, детство, отрочество, юность, зрелость, старость в русском языке имеют отвлеченнообобщенную (абстрактную) семантику. Нарай наНан - младенчество; бага наНан, ухибуун наНан - детство; гулмэр наНан - отрочество; эдир или залуу наНан - юность; бэеэ хусэНэн наНан - зрелость; убгэн или хуггиэн наНан - старость.
Событийная цикличность может определяться годовым периодом. В этом случае точкой отсчета является Новый год по лунному календарю - Сагаалган. Поскольку после Сагаалгана обычно не бывает очень больших морозов, буряты говорят ондо орохо “перезимовать” букв, “войти в год”; дааган далантай, буруун булшантай ондо оробо “войти в (новый) год - жеребята и телята не потеряли в весе”, букв, “жеребята с жирком, телята с икроножными мышцами вошли в год”.
Периоды года выделяются по наиболее важным событиям в деятельности человека. Период конца зимы тул абалгын уе - время получения приплода от овец: тул абалга тулэг дундаа ябажа байна “окот овец в самом разгаре”; энэ жэлдэ тул абалга Найнаар ябажа байна “в этом году окот овец проходит хорошо”; тул абалга дуурээ “закончился окот овец” (2). Начало лета -время жертвоприношения духам, покровителям - обоо тахилгын уе; зунай эхеэр обоо тахилган болодог “в начале лета бывает обряд жертвоприношения духам”; ерэхэ амаралтада обоо та- хилган “в следующее воскресенье будет проведено жертвоприношение духам”; обоо тахихада бороон орохо гэдэг “когда совершат обряд жертвоприношения, дождь пойдет”.
В циклическом времяисчислении выделены следующие временные отрезки: время стрижки овец нооНо хайшалгын уе; энэ жэлдэ нооНо хайшалган саг. соогоо унжагайрангуй эхилбэ “в этом году стрижка овец началась вовремя, без опоздания”; хоншюйнгоо нооНо хайшалаад, убИэндэ оролгон болохол даа “как только закончится стрижка овец, начнется время сенокоса (букв, “вхождение в сено(кос)”) (2); период сенокоса убНэ хуряалгын уе или убНэнэй уе: убНэнэй уеэр гараа хуи гэжэ, абамнай хэлэдэг Нэн “во время сенокоса я родился, говорил наш отец ”; убНэ хуряалган якала эршэмтэйгээр ябажа байна “сеноуборка достаточно быстро продвигается” (2); период хлебоуборки талха хуряалгын уе или талханай уе: талха хуряалгын уе ороо “наступила пора хлебоуборки” (2); талхан соогуур намай туров бэлэйш (из песни) “во время уборки хлебов ты меня родила”.
Периодизация временного цикла может быть связана с наиболее важными событиями в жиЗни, в судьбе человека: хадамда гараагуй, хадамтай болоогуй - до замужества; хадамтай, нухэртэй (о женщине) - после замужества; гэрлэНэн, Намга абаИан хун (о мужчине) - после женитьбы; сэрэгэй албанда ябаагуй, сэрэгэй алба хээгуй, армида ошоогуй - до службы в армии; сэрэгэй алба хэИэн, армида ябаНан хун, действительнэдэ outood ерэНэн хун — после прохождения службы в армии; ухибуутэй, хуугэдтэй, багатай болоогуй - до рождения детей; ухибуутэй, хуугэдтэй, багатай букв, “с детьми, с малышами” - после рождения детей.
Анализ способов выражения линейного времени в бурятском языке вскрывает определенные закономерности.
В бурятском языке используется несколько слов со значением “время” (саг, он, жэл, уе, xaha), в ряде случаев обозначение времени более детально, чем в русском языке.
Наиболее простое и емкое содержание имеет слово саг: оно функционирует в обозначении и длительных промежутков времени - униурда сагта "в давние далекие времена", ажана амга-лан саг ‘‘мирное время”; и кратковременных периодов времени - саг зуурын ажал “временная работа”, саг зуура “временно, на время". Саг используется для обозначения повторяющихся, постоянных и одноразовых явлений: углоонэй саг “утреннее время”, удэрэй саг “дневное время”; саг бусаар "безвременно”, саг ургэлжын уншагшад “постоянные читатели”; саг бусын аюул “несчастный случай ”. Саг - это доминантное слово в синонимическом ряду обозначения времени.
Для номинации промежутков времени, явлений повторяющихся, периодических в бурятском языке используются как саг, так и слова с прототипическим значением цикличности времени он и жэл. .
Он - номинирует год календарный, обозначает определенное время, место события во времени, дату. Он используется для абсолютного указания времени, например: зуун жаран нэгэн он “тысяча девятьсот шестьдесят первый год ”, ондо орохо “перезимовать ", мянга юНэн “переносить зиму (о скоте)”, ондо оруулха “обеспечивать скот на зиму кормами ".
Жэл - год астрономический: жэл жэлэй ургаса “ежегодный урожай", жэл бури “каждый год, ежегодно”, жэлНээ жэлдэ “из года в год; год от году". Можно предположить наличие у жэл значения относительного времени, то есть наличие в семантике потенциальной временной точки отсчета (из года в год, год от году от какого-то времени).
. Выявление прототипического значения слова уе объясняет его использование в следующих высказываниях: сэсэглэлгын уе “время цветения", амаралтын уе “время отпусков”, сессии» уе “время сессии ”. ■
Ye обладает разветвленной полисемией: 1) сустав; 2) звено; 3) слой, пласт; 4) поколение; 5) период, эпоха; 6) время, пора. Сопоставление этих значений позволяет определить ядерное, прототипическое значение: “составная часть чего-либо”. Поэтому промежуток времени, названный уе, представляется как составная часть какого-либо времени или время, состоящее из частей, промежутков. В картине мира носителя бурятского языка актуально значение времени, состоящего из определенных периодов: сэсэглэлгын уе «время цветения» - период в развитии растения; саНанай хайлаха уе «время таяния снега» - период начала весны; хюруу унаха уе «время заморозков» - начальный период наступления холодного времени года.
Прототипическим значением объяснимо использование существительного xaha в следующих высказываниях экзаменам халуун xaha “горячая поря экзаменов", xaha дээрэнъ “кстати ”, эгээл энз хаНада “как раз в это время”.
Время, передающееся словом xaha определяет момент активности, совпадения усилий, возможностей, так как второе значение слова xaha “мощь, сила, возможность”.
Стилистическое многообразие обозначения лексическими средствами настоящего момента в русском языке (теперь - разг., сейчас - нейтр., нынче - разг-устар., ныне - устар.) в бурятском языке снимается, поскольку настоящий момент номинируется лишь наречием муноо .
Для обозначения прошедшего и грядущего дня в бурятском и русском языках номинация строится по одной модели. Исходной точкой служит настоящий момент (сегодня, мунеодэр). Грядущий день называется словом с прозрачной внутренней формой и в том и другом языке. В русском языке завтра имеет этимологическую основу, восходящую к общеславянской форме заутра. В бурятском языке углеедэр имеет внутреннюю форму утро, день (ближайшее утро от настоящего момента, утро следующего дня).
Прошедший день в русском языке - вчера - номинируется корнем, восходящим к общеславянскому вечер^ в бурятском языке \сэгэлдэр восходит предположительно к ухэНэн /) умерший, мертвый; 2) довольно, порядочно, значительно. Таким образом, усэгэлдэр - день, который уже закончился, доведен до предела, исчерпан.
Русские послезавтра и позавчера имеют префиксальное образование от завтра и вчера. В бурятском языке номинации нугеадэр и уржадэр созданы слиянием нугее «другой» и дэр «день»; уржа «передний» и дэр «день».
Темпоральные значения в бурятском и русском языках передаются сочетанием существительного с атрибутами лугг^эн «старый», шэнэ «новый», залуу «молодой», нэгэдэхи, туруу, туруушын «первый», Нууяэй, Ьуулшын «последний».
Если в русском языке молодой в сочетании с существительным номинирует возраст человека, растения, недавно приготовленный продукт (молодой сыр, квас), то в бурятском языке молодым «залуу» может быть только человек (залуу луя) или древесные побеги (залуу модонУ “Возраст” всей остальной части предметного мира номинируется прилагательным шэнэ, обладающим разветвленной полисемией: шонэ хартиабха «молодой картофель», шэнэ Нара «молодой месяц».
Основное же (первичное) значение шэнэ - новый, свежий: шэнэ байра «новая квартира», шэнэ хилээмэн «свежий хлеб».
Молодая травка, молодые листочки обозначается сочетанием прилагательного Ная с существительным: Ная гараНан ногоон «только что проклюнувшаяся трава», Ная гараНан набшаНан «только что появившиеся листочки».
Таким образом, доминирующий, прототипический признак при выражении темпоральных значений в бурятском и русском языках не совпадает. Шэнэ подчеркивает новизну, Ная скачкообразное появление, возникновение. При номинации одних и тех же темпоральных значений действительности актуализироваться могут разные свойства этих явлений в миропредставлении носителей бурятского и русского языков.
Темпоральное хронологическое значение передается сочетанием существительного со словом нэгэдэхи «первый ('порядковое числительное)»: дэлхэйн нэгэдэхи дайн «первая мировая война», нэгэдэхидэ Нураха «в первом (классе) учиться».
Значение “первоначальный”, “новый”, “ранний” номинируется прилагательным туруушын: туруушын дуран «первая любовь», туруушын саИан «первый снег», туруушын алхам «первые шаги». Определение туруушын в этих примерах содержит сему количественного признака на периферии, в ядре же имеет значение “ранний”, “первоначальный”, “наивный”, “неопытный” и ДР
Значение “лучший”, которое в русском языке также может выражаться атрибутом первый, в бурятском языке номинируется словом туруу: туруу Нуригша «первый ученик», туруу ажал ябуулагшад «передовики».
Перечисленные номинации свидетельствуют о несовпадении членения мира посредством темпоральных слов в бурятском и русском языках.
Малахинова Е.А. Национально-культурная специфика терминов родства в языковом сознании бурят
Таким образом, исследование лексического выражения темпоральных значений в бурятском языке в зеркале русской картины мира выявляет своеобразие и уникальность осознания и воспроизведения времени носителями бурятского языка.
Когнитивный подход к изучению лексического состава обозначения времени показал, что в бурятском языке представлено как циклическое, так и линейное время. Часть слов с темпоральным значением в циклическом представлении связана с традиционной культурой бурят. Многие описательные номинации отличаются конкретно-образным содержанием.
В проанализированных речевых фактах бурятского языка проявляются детальное выражение временных отрезков; идентичность семантической структуры многозначных слов в бурятском и русском языках; встречающиеся различные прототипические основания в номинации времени в бурятском и русском языках.
Список литературы Номинация времени как выражение картины мира: циклическое и линейное время в бурятском и русском языках
- Мунгонов Б. Харьялан урдаа Хёлгомнай. -Улан-Удэ, 1960.
- Полевые социолингвистические записи, проведенные в Агинском национальном округе Читинской области, 1980, 1989 гг.; в Бичурском, Иволгинском. Тункинском, Закаменском районах в 1986, 1989, 1990, 2000, 2001 гг.
- Цыдендамбаев Ч. Банзарай хүбүүн Доржо. -Улан-Удэ, 1968.
- Батожабай Д. Тоөригдэhэн хуби заяан. -Улан-Удэ, 1966.
- Буряад Үнэн. 1985. 25 февр.; 1989. 10 июня; 1989. 12 июля; 2002. 7 марта; 2002. 7, 14, 21, 28 ноябр.; 2002. 5, 19 дек.
- Санжин Б. Заяанай зам. -Улан-Удэ. 1974.