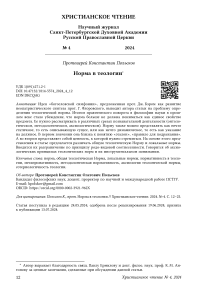Норма в теологии
Автор: Польсков К.О.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теоретическая теология
Статья в выпуске: 4 (111), 2024 года.
Бесплатный доступ
Идея «богословской симфонии», предложенная прот. Дж. Бэром как развитие неопатристического синтеза прот. Г. Флоровского, выводит автора статьи на проблему определения теологической нормы. Итогом практического поворота в философии науки в прошлом веке стало убеждение, что норма больше не должна пониматься как единое свойство предмета. Ее нужно рассматривать в различных срезах познавательной деятельности (онтологическом, методологическом, аксиологическом). Норму также можно представлять как нечто статичное, то есть описывающую сущее, или как нечто динамическое, то есть как указание на должное. В первом значении она близка к понятию «эталон», «правило для подражания». А во втором представляет собой ценность, к которой нужно стремиться. На основе этого представления в статье предлагается различать общую теологическую Норму и локальные нормы. Вводится их разграничение по принципу родо-видовой соотнесенности. Говорится об аксиологических принципах теологических норм и их инструментальном понимании.
Норма, общая теологическая норма, локальные нормы, нормативность в теологии, метанромативность, методологическая нормативность, аксиология теологической нормы, сотериологичность теологии
Короткий адрес: https://sciup.org/140308459
IDR: 140308459 | УДК: 1(091):271.2-1 | DOI: 10.47132/1814-5574_2024_4_12
Текст научной статьи Норма в теологии
Возвращение в конце прошлого столетия теологии в отечественное научное и интеллектуальное пространство возродило дискуссии о присущих ей особенностях. На Западе же эти вопросы никогда не уходили из поля зрения мыслителей. И хотя порой основания такого интереса у отечественных и иностранных ученых разные, часто и те, и другие задают одни и те же вопросы. Так, в 2021 г. издательство T&T Clark выпустило том материалов научной конференции «Богословское наследие протоиерея Георгия Флоровского» [Chryssavgis, 2021], прошедшей в 2019 г. под патронатом Вселенского патриарха. Важным вкладом в данное издание можно считать статью бывшего декана Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке прот. Джона Бэра «От синтеза к симфонии» [Behr, 2021]. В ней известный современный богослов, избранный в 2017 г. почетным профессором патристики имени отца Георгия Фло-ровского (Father Georges Florovsky Distinguished Professor of Patristics), анализируя концепцию возврата к «духу Отцов», задает важнейшие для современного богословия1 вопросы. Отмечая бесспорный вклад прот. Г. Флоровского в развитие концепции неопатристического синтеза, которая «во второй половине прошлого века была воспринята большинством православных богословов как неоспоримая и несомненная данность. как те рамки, внутри которых только и можно богословствовать в православном смысле» [Behr, 2021, 280-281], прот. Дж. Бэр, однако, признаёт, что при подходе, предложенном прот. Г. Флоровским, существует опасность «потерять» что-то важное, касающееся взглядов отдельных богословов. «Их конкретные особенности не игнорируются, но они и не на виду: важным является феномен отцов и их согласие. Любые различия между ними как бы выносятся за скобки: различия признаются, но конкретный голос каждого отца неважен, поскольку единственно, что обладает авторитетом и обязательностью, — это их консенсус, выражающий „разум кафолической и всемирной Церкви“» [Behr, 2021, 282].
Вспоминая вековой давности критику со стороны прот. С. Булгакова в адрес идей о. Г. Флоровского, автор статьи выражает согласие с последним, считавшим, что богословам необходимо более тщательно исследовать исторический контекст, в котором были созданы тот или иной святоотеческий текст и само Священное Писание. Но одновременно он указывает и на ограниченность позиции о. Сергия Булгакова: «Мы видим сквозь тусклое стекло, (еще) не лицом к лицу, не с полным пониманием, зная лишь отчасти (1 Кор 13:12). Истинный consensus patrum — это на самом деле эсхатологическая реальность, поскольку она должна включать всех святых от начала бытия мира до его конца. Но это, в свою очередь, означает, что любой синтез, который мы, по сути, знаем в настоящем, ограничен, это наш собственный синтез, а не окончательный эсхатологический консенсус» [Behr, 2021, 284].
Трудно не согласиться с тем, что христианская теология всегда должна быть, если так можно выразиться, эсхатологически ориентированной. Богословие как само-рефлексия Церкви имеет смысл только в сотериологической, а значит, эсхатологической перспективе.
Однако прежде чем переходить от общих рассуждений о норме и нормативности к уяснению того, что же такое норма в теологии, необходимо указать на два важных для данной статьи ограничения. Во-первых, принимая во внимание двойственность самого термина «богословие» (как молитвенного созерцания Божественных тайн, особой формы духовного делания и как совершаемого с позиции веры рационального оформления результата постижения человеком откровения Бога в мире), далее в данной статье при рассуждении о теологической (богословской) норме будет по преимуществу подразумеваться второе значение понятия «богословие». Хотя, конечно, полностью развести духовное и теоретико-когнитивное измерение богословия не только невозможно, но, как будет показано далее, они взаимно влияют друг на друга. И во-вторых, учитывая тот факт, что теология — знание конфессиональное, в данной статье рассуждения о ее норме будут ограничены той областью, которую можно условно назвать «восточнохристианским» богословием. Возможно, большинство выводов, которые будут сделаны ниже, могут быть отнесены и к католическому, и протестантскому (вернее, многочисленным протестантским) богословию. Но все же в них присутствуют и такие особенности, которые значительно влияют на рассматриваемое понятие, как, например, особая роль, которую играет в католическом богословии magisterium ecclesiasticum. То есть понимание нормы в разных христианских конфессиях будет различаться. Поэтому, а также принимая во внимание ограниченный объем журнальной статьи, исключающий фундирование особенностей всех конфессиональных изводов богословия, предлагаемые далее идеи можно считать попыткой определения нормы, характерной для православного богословия.
Опираясь на высказывание сщмч. Иринея Лионского о том, что Бог «разнообразными способами устраивает человеческий род в согласие спасения» (Haer. 4.14.2), прот. Дж. Бэр предлагает вместо идеи «синтеза отцов» идею их «симфонии», которая «не сводит каждый голос к единогласию, консенсусу (как к наименьшему общему знаменателю): каждый голос в ней вносит вклад в полифоническую природу симфонии» [Behr, 2021, 286]. Богословие тогда становится напряженной духовной работой, цель которой состоит в том, чтобы «сами мы могли быть включены в эту симфонию, могли бы сегодня принять в ней участие, петь в этой симфонии новыми голосами, [исполнять] темы и ритмы, которые могут отличаться от тех, что шли раньше, но все же составляют часть той же симфонии…» [Behr, 2021, 286–287].
Данный образ подводит прот. Дж. Бэра к главному вопросу о том, как же можно научиться слышать в разрозненных голосах свв. отцов такую единую симфонию. «А это возвращает нас к проблеме… внутреннего единства богословия как богословия » [Behr, 2021, 287]. Вслед за автором невозможно не задать вопросов о том, чт о в наше время делает различные теологические специализации единым целым? Не распадается ли современное богословие на множественные «теологии родительного падежа», очень слабо связанные между собой? Способны ли еще сегодня богословы, каждый из своего «профессионального теологического пространства» (догматика, библеисти-ка, патрология, церковная история и проч.) продолжать видеть как свою главную цель Лик воскресшего Христа?
Вопросы, которые возникают по прочтении статьи прот. Дж. Бэра, заставляют задуматься. Однако, как и во многих хороших текстах, в ней есть некоторые моменты, вызывающие встречные вопросы. Так, автор укоряет прот. Г. Флоровского в использовании в богословских построениях категорий и схем, взятых не у свв. отцов, а из философии, и некритически применяемых к различным объектам (особенно таких, как «разум», «опыт», «видение») [Behr, 2021, 281]. Но при этом сам он, объясняя, как нужно воспринимать предлагаемую им идею «богословской симфонии», прибегает к философской герменевтике Х.-Г. Гадамера, толкующей тексты как наложение «различных горизонтов» понимания [Behr, 2021, 285, 286, 287]. И такое обращение к философии, за что он сам и критикует прот. Г. Флоровского, выглядит неким курьезом. Хотя подобный курьез совсем не нов для современного богословия. Можно вспомнить В. Н. Лосского и митр. Сергия (Старогородского), которые критиковали прот. С. Булгакова за обращение к философии, хотя и сами они в своей критике опирались на определенную философию (бергсонизм и персонализм). За это их в свою очередь критиковало уже следующее поколение богословов. Но о другом недоумении стоит все же сказать более подробно. Так, настаивая на том, что разнообразие голосов свв. отцов, составляющих «богословскую симфонию», невозможно свести к «богословскому унисону», а также указывая на незавершенность мирового процесса, предельные смыслы которого (в том числе и богословские) откроются только во Втором Пришествии Христа, прот. Дж. Бэр, как кажется, парадоксальным образом рискует выбить из-под ног современной теологии важное основание. Он говорит, что для прот. Г. Флоровского первостепенную важность имеют категории «„разум“, „видение“ или „опыт“ Отцов, „разум кафолической Церкви“, а не конкретная историческая ситуация каждого из Отцов, борьба, в которую они были вовлечены, и их уникальное свидетельство, привнесенное каждым из них» [Behr, 2021, 282]. Но ведь и сам он утверждает, что никакое богословское высказывание не может рассматриваться как законченное, как бы детально ни разобрали мы исторический контекст, в котором оно появилось. Оно лишь добавляет тот или иной дополнительный тон к единой богословской симфонии. А истинный смысл его откроется только во Втором Пришествии. Трудно допустить, что ценность истории как места совершаемого здесь и сейчас спасения, а следовательно, ценность каждого конкретного богословского свидетельства, хоть как-то умаляется автором. Наоборот, он настаивает на важности изучения исторического контекста в творчестве каждого богослова. Но пред судом эсхатологического раскрытия предельных смыслов не становится ли исторически обусловленная конкретность каждого из свв. отцов, которая давно превратилась в «седую» старину, фактом вторичным? Не растворяется ли в этой перспективе тот самый «конкретный голос каждого отца», на важности которого сам автор и настаивает? К тому же сегодняшнее наше понимание реальности, стоящее за высказыванием того или иного св. отца, отличается от того, каким оно было в его время. Тогда не теряет ли, вопреки первоначальному заявлению прот. Дж. Бэра, изучение истории свой смысл? И не приведет ли эта мысль к выводу, что теология является скорее аисторичной формой вдохновенного свыше творчества, всегда различной и не имеющей четких контуров? В каждый момент и для каждого нового богослова она своя. Такое представление очень мало похоже на строгую дисциплину, имеющую свои рамки и границы, в качестве каковой мы привыкли уже в течение многих столетий воспринимать теологию. Но в чем тогда заключаются основания, позволяющие богословию претендовать на научный статус среди других смежных дисциплин? Насколько при этом теологические выводы и обобщения вообще могут быть значимы? Не размывается ли при таком подходе сама идея нормативности, как кажется, столь важная для богословского высказывания? Представляется необходимым это прояснить в свете вопросов, возникших при прочтении статьи прот. Дж. Бэра.
О норме можно говорить в двух смыслах. Во-первых, как о предписании, которое необходимо выполнять. Понимаемая так норма — это фактически свод обязательных для исполнения правил. Такое представление близко к понятию «эталон» или «стандарт» и является статическим, в котором норма схватывается как сущее, обозначая меру предмета. Применительно к процессу познания при таком понимании речь будет идти об эпистемической норме. А можно этим термином также обозначать некую сверхэпистемическую ценность, определяющую бытие человека и являющуюся для него ориентиром. Тогда норма — это явление динамическое, указывающее на должное, к которому нужно стремиться. При таком понимании она также обладает эпистемологическим потенциалом, направляя все существо человека (а значит, и его познавательные способности) к определенной цели. Но в этом случае ее трудно окончательно формализовать. Именно в силу такой двойственности каждую норму можно рассматривать по-разному: как сущее или как должное. В каких-то случаях антиномически применимы оба подхода.
Вопрос о моральном смысле норм и правил ставился уже в античности: у Ксе-нократа, делившего философию на логику, физику и этику, у стоиков, у Платона в «Горгии». А «Органон» Аристотеля — это свод норм правильного понимания и познания. Но как самостоятельная проблема нормативность в науке была осмыслена только с наступлением эпохи модерна. Она встала в повестку дня лишь с развитием самого феномена современной науки. Однако происходит это, как ни странно, довольно поздно, и, более того, исследователи согласны, что универсальной теории норм так до сих пор и не выработано [Невважай, 2017, 21; O’Neill, Korsgaard, 1996, XI]. Впервые в Новое время вопрос о норме в науке задает И. Ф. Гербарт применительно к нормативному характеру этики [Шохин, 2006, 379], а затем представители неокантианской Марбургской (П. Г. Наторп) и Фрейбургской (Г. Риккерт и В. Виндельбанд) школ. Так, П. Г. Наторп наряду с теоретическим познанием признавал этику в качестве «практического познания, т. е. познания не того, что есть, а того, что должно быть» [Наторп, 1911, 54–55], то есть как дисциплину, изучающую нормы. Постановка такого вопроса неслучайна. Неокантианская теория ценностей, безусловно, претендовала на то, чтобы стать универсальной теорией норм, регулирующих духовную жизнь человека и его процесс познания. Осмысление нормативности присутствует также и в феноменологии Шелера. Но идею, которая в первой половине прошлого века стала преобладающей, сформулировали представители логического позитивизма, признававшие нормативный характер только за процедурой получения достоверного знания. Однако подробное обсуждение хорошо известной точки зрения логического позитивизма и последователей Венского кружка не входит в задачу настоящего исследования.
Безапелляционность логических позитивистов в отношении нормативных высказываний была смягчена уже представителями постпозитивизма. Так, К. Поппер утверждал, что «нет таких органов чувств, в которые не были бы генетически встроены определенные предвосхищающие теории» [Поппер, 2002, 76]. А. Т. Кун считал, что научная парадигма включает в себя не только научную теорию и свойственный ей научный инструментарий, но и ценности, эвристические методы, аналогии [Кун, 2003, 270, 273-277], то есть то, что отцы логического позитивизма без колебания назвали бы ненаучной «метафизикой». Такое изменение акцентов отразило идеи начавшегося в это время «практического поворота в философии» [Борисов, Мельник, 2006; Soler, 2014], когда фокус интереса исследователей постепенно стал смещаться с процедур научного объяснения к самому пониманию.
С описанием того, как это происходило, можно ознакомиться в обзорной статье Х. В. Регта с говорящим названием «От объяснения к пониманию: утраченная нормативность?» [Regt, 2019]. Исследователь из Нидерландов приходит к выводу, что отход от крайностей логического позитивизма привел в конце прошлого века к формированию различных теорий нормативности феномена понимания, стремящихся описать, как возникает связь между субъективным схватыванием (grasp) и объективным представлением об устройстве мира. Он допускает существование различных «контекстных теорий норм» [Regt, 2019, 336–337].
А еще в 2014 г. омский ученый М. Х. Хаджаров предложил рассмотреть норму в различных срезах познавательной деятельности: онтологическом, методологическом и аксиологическом. Это, по его мнению, позволяет выявить новые грани в понимании самой природы современного научного познания. «В онтологическом аспекте норма выступает как мера предмета исследования, посредством которой устанавливается его конститутивный статус в форме качественной определенности. В методологическом ракурсе норма характеризует определенность познавательного инструментария применительно к предмету познания. В аксиологическом контексте норма выражает ценностно-методологический опыт познания, накопленный в рамках науки, — систему правил, принципов или установок, посредством которых обеспечивается решение исследовательских задач и получение желаемых результатов» [Хаджаров, 2014, 63].
В этом высказывании речь в основном идет об эпистемическом понимании нормы. Но, если рассматривать норму еще и как сверхэпистемическую ценность, то в ней «становится значимым не только сущее как таковое, но и должное» [Хаджа-ров, 2014, 65], а «нормативно-оценочная позиция субъекта познания ведет к постижению (выделено мною. — прот. К. П. ) объективной и социально значимой истины» [Хаджаров, 2014, 66].
Пять лет спустя после появления статьи М. Х. Хаджарова и (по понятным причинам) совершенно независимо от высказанных им идей в январском номере журнала «Metaphilosophy» за 2019 г. выходит статья М. Кайзер «Нормативность в философии науки» [Kaiser, 2019]. В ней немецкая исследовательница еще раз подчеркивает, что в результате произошедшего «практического поворота» наблюдается отход от одних видов нормативности, тогда как другие ее виды в науке сохраняются. Теперь «нормативность в философии науки уже не понимается только как единое свойство, общая характеристика, имеющаяся или отсутствующая у философского высказывания, а… многогранный феномен» [Kaiser, 2019, 37]. Автор выделяет три вида нормативности: ту, которую она называет метанормативностью, методологическую и объектную нормативность. Она считает, что в последнее время произошел отход только от метанормативности, понимаемой, по ее выражению, ex cathedra, т. е. от той, которая не основана на эмпирических научных данных и безапелляционно навязывает ученым определенную исследовательскую программу. При этом метанормативные высказывания, «принимающие во внимание, а также вытекающие из или информированные о фактуальных данных» [Kaiser, 2019, 44], вполне допустимы. Как следует из названия, объектом второго вида нормативности выступает философская методология научного исследования. Она «стремится понять и описать, как на самом деле функционирует научная практика» [Kaiser, 2019, 49]. Автор выделяет четыре задачи, на решение которых направлена методологическая нормативность: 1) отбор информации, 2) интерпретация научных данных, 3) создание непротиворечивой концепции, 4) согласование эмпирических данных и предлагаемой теории [Kaiser, 2019, 47–48]. Наконец, третий вид нормативности касается эпистемических или социальных норм науки и затрагивает этос научного процесса [Kaiser, 2019, 52]. Примером объектной нормативности, по мнению исследовательницы, может выступать идея простоты как лучшего критерия, позволяющего сделать выбор между конкурирующими теориями [Kaiser, 2019, 54]. Объектная нормативность, считает М. Кайзер, может присутствовать как в метанормативных, так и в методологически нормативных утверждениях.
И наконец, еще одно важное для обсуждаемой темы замечание. Оно касается логического порядка рассуждения о норме. Говоря об этом, отечественная исследовательница С. М. Кускова отмечает: «Феноменологический анализ сознания выявляет такие его действия, как: 1) следование нормам и правилам, 2) конституирование нормы, 3) установление иерархии норм, 4) обоснование нормы. Эти действия перечислены в порядке их реализации на практике. Логический порядок для них — обратный. Сначала должно быть дано основание или общий принцип регламентации какой-либо деятельности, потом — создание нормативной системы, внутри которой утверждаются новые нормы, и только после этого — исполнение норм» [Кускова, 2017, 44]. То есть существующие представления о норме ведут познавательный процесс от общего (обоснование принципа регламентации) к частному (следование норме при получении результата). Это последнее утверждение, особенно в свете того, что единой теории норм на сегодняшний день не существует, приобретает важное значение. С одной стороны, не представляется корректным выводить «научный» или «ненаучный» характер той или иной научной специальности, исходя из каких-то особенностей принятых в ней норм. Принимаемые в качестве базовых в одной науке, они могут критически осмысляться философами науки и подвергаться сомнению представителями других научных дисциплин. При этом для самой научной специальности, ими оперирующей, они могут играть важную роль в познавательном процессе. Но и обратное утверждение тоже верно. Ссылаясь на норму, исследователю необходимо предъявить научному сообществу ее основание и обрисовать контуры нормативного знания, с которым он производит процедуру сопоставления, и решить вопрос о том, не выводит ли наличие этих норм или, наоборот, их отсутствие такое знание за пределы науки.
Можно ли данные выводы попробовать применить к той идее «богословской симфонии», которую предложил прот. Дж. Бэр? Если ею воспользоваться, то нельзя не вспомнить, что любая самая красивая симфония рискует превратиться в какофонию, если искусный дирижер, творчески интерпретирующий задумку автора, не соединит воедино усилия различных музыкантов, играющих каждый свою партию. Конечно, творчество дирижера, как, наверное, и любое другое творчество, до конца не может быть формализовано, т. е. трудно поддается описанию в категориях нормативности. Но в момент исполнения именно его интерпретация и становится нормой, которую принимают отдельные исполнители. Близкий образ предложил прот. А Шмеман, говоря не только о возможности, но и о настоятельной необходимости для каждого нового поколения «„преобразования“ богословия в новом „ключе“» [Schmemann, 1972, 178]. Отец Александр в английском оригинале употребляет музыкальный термин transposition, который может быть переведен как «транспонирование», «настройка в новой тональности». Таким образом, через музыкальный образ симфонии, возможно, навеянной его учителем, мысль прот. Дж. Бэра имплицитно выводит нас на тему о богословской норме, позволяющей звучать богословской симфонии.
Опираясь на отмеченную выше идею о том, что первым шагом при рассуждении о норме должно быть предъявление тех оснований, на которых она утверждается, можно предложить следующее соображение. По образу того, как В. Н. Лосский, прот. Г. Флоровский и И. Конгар различают Предание с большой буквы как «как целостное откровение Истины во всем историческом протяжении человеческого бытия с Богом» [Михайлов, 2016, 15] и многочисленные локальные (во времени, в разных богословских доктринах, церковных сообществах, теологических специализациях и т. д.) предания, было бы правильным различить общую богословскую Норму и локальные нормы. Безусловно, для людей верующих абсолютной Нормой является личность Христа, Его жизнь и учение. Хотя для «внешних» прямая апелляция к так понимаемой Норме вряд ли будет значимой, но все же можно предположить, что ее «катафа-тической» сердцевиной является Священное Писание, в котором эта Норма запечатлена. Это утверждение к тому же имеет и вероучительное основание в виде учения о богодухновенности Писания (2 Тим 3:16, 2 Петр 1:20–21). Надо заметить, однако, что при всей своей важности это вероучительное положение до сегодняшнего дня так и не имеет единого понимания, на что еще в середине прошлого века указывал прот. А. Князев: «Нельзя не отметить полную неразъясненность этой истины в богословии» [Князев, 1951, 114]2.
Но все же, «воплощаясь» в Писании, общая Норма становится доступной для всех. Именно к ней устремляли свой духовный взгляд богословы первого тысячелетия, ища здесь источник своего богословия. Да и само богословие для них было неразрывно связано с толкованием Слова Божия. Так, Ив Конгар утверждает: «До конца двенадцатого века теология в своей основе, скажем честно, является исключительно библейской. Она попросту называется sacra pagina или sacra scriptura» [Congar, 1968, 51; Farley, 1994]. Великолепным примером такого типа богословствования является «Исповедь» блж. Августина, в которой слова священного текста и собственные мысли автора (не только богословские, но и философские, т.е. имеющие своим основанием не Писание) переплетены воедино. По-видимому, эта же интуиция заключена и в базовом протестантском принципе богословия sola Scriptura . Отвергая крайности поздней схоластики, часто прибегавшей к философскому авторитету в ущерб авторитету Библии, лидеры протестантизма настаивали на том, что любое доказательное теологическое высказывание должно опираться на Священное Писание, толкуемое в Святом Духе. Об отходе богословия от библейских основ ( sacra pagina ) и переходе его к состоянию «истории доктрин» ( sacra doctrina ) как одной из самых больших проблем теологии нашего времени и о необходимости для теологии вновь открыть для себя базовое библейское измерение говорит в цитировавшейся выше статье и прот. Дж. Бэр.
Он справедливо указывает на то, что во втором тысячелетии очень часто «отрывки Писания лишь подтверждали догматические идеи, превратившись в loci communes… и став строительными блоками для догматического богословия» [Behr, 2021, 282–283]. Правда, стоит заметить, что в диахронной перспективе принцип sola Scriptura сам по себе не смог предотвратить появление весьма сомнительных экзегетических экспериментов, встречающихся во многих современных «теологиях родительного падежа» (феминистской, экологической и проч.). Поэтому, по крайней мере для православного и католического богословия, нормативным характером обладают также определения Вселенских и некоторых Поместных Соборов, а также высказывания и творения отдельных свв. отцов, принимаемые всей полнотой Церкви. В Писании и соборных определениях и заключен тот онтологический аспект теологической Нормы, в котором, по словам цитированного выше М. Х. Хаджарова, схватывается ее «конститутивный статус в форме качественной определенности». А в логике М. Кайзер такой вид теологической нормативности можно назвать метанормативностью. В ней сочетаются, не сливаясь, Откровение и то, как оно было воспринято и усвоено в истории человеком. Этот вид нормативности не может игнорироваться даже теми, кто не признает реальность Откровения. Оно материально зафиксировано в текстах Писания и решениях общепринятых Соборов и принимается на протяжении всей истории христианского богословия в качестве непререкаемого источника теологических пропозиций, de facto являясь общей теологической Нормой, обладающей предписательным авторитетом. Если использовать старое латинское определение, это и есть Norma normans (норма, которая определяет другие нормы).
Рядом с ней существуют локальные нормы. Они носят конвенциональный и контекстуальный характер и принимаются за таковые в определенное время, в определенном месте, в рамках какой-то традиции или теологической школы. Очевидно, что локальные нормы должны опираться на общую Норму и не могут ей противоречить. Важно, чтобы они в своем развитии и становлении не подменяли собой общую Норму, не заслоняли ее и не превращались в форму нового мифа и метафизики [Kalaitzidis, 2010, 16]. Вопрос о конкретных формах их взаимоотношения решается отдельно в каждом отдельном случае внутри того сообщества или группы, для которой эта локальная норма релевантна. Поэтому возможна ситуация, когда какие-то нормы, игравшие важную роль в то или иное время, потеряют ее в другом контексте и иной исторической обстановке. Так, например, после осуждения Аполлинария Лаодикийского широко распространенная до этого трихотомическая антропология на долгий срок перестала использоваться христианскими авторами, по крайне мере на Востоке [Спасский, 1895, 461]. А в русском богословии как на близкое к этому явление можно указать на отход в нач. XX в. от юридических схем при изъяснении теорий Спасения [Гнедич, 2007].
Теперь можно перейти к вопросу о методологической теологической нормативности или методологическому ракурсу теологической нормы. Как известно, понятие метода может толковаться в широком смысле (как определенная направленность познавательного процесса) либо узко (как инструментальный набор конкретных процедур, характерных для деятельности познающего субъекта). Рассуждая о широком смысле методологической нормы в теологии, важно напомнить, что, даже став теперь «одной из» наук, теология не потеряла своего первоначального измерения как духовного делания и особой формы мышления. Из этого понимания для богословия вытекают два взаимосвязанных нормативных методологических принципа, имеющие ценностный характер. Вслед за М. Хаджаровым их можно характеризовать как определяющие аксиологический аспект методологической нормативности в теологии.
Первым, как уже указывалось выше, является ее направленность на сотериоло-гический идеал, «понимаемый… не как данность нынешней человеческой ситуации, а как эсхатологическое осуществление изначально заложенной в мире внутренней структуры» [Balthasar, 1988, 57]. То есть, говоря о предметах и явлениях этого мира, даже уже ушедших в историю, богослов всегда конечной точкой своих рассуждений имеет представление о должном, заключенном в предельных сотериологических смыслах, которые эсхатологичны по своей природе. Он, являясь выразителем профе-тического голоса Церкви, всегда призван производить процедуру теологического соотнесения изучаемого им явления сначала с общей Нормой, а потом и с локальными нормами, чтобы уяснить, насколько оно соответствует тому представлению о спасении, которое из них вытекает. Понимание этого основано на содержащемся в Откровении антиномическом представлении об эсхатологическом свершении не только как о том, что должно реализоваться в будущем («еще не»), но и о том, что реально присутствует в настоящем («уже»). Современный греческий богослов П. Калацидис пишет: «Эсхатология — это деятельное и настойчивое чаяние пришествия Царствия Божия, нового мира, который мы ожидаем. В силу своей природы эсхатология дает силы для динамичного погружения в настоящее, жизнеутверждающей открытости будущему Царства, в котором нужно искать полноту и сущность Церкви. Другими словами, Церковь (а значит, и ее теология. — прот. К. П.) принципиально получает свою сущность не из того, что она есть, а из того, чем она станет в будущем, в эсхатологическом времени» [Kalaitzidis, 2010, 30].
Исходя из этого, главной задачей теолога является увидеть и раскрыть в настоящем элементы чаемого эсхатологического будущего. Она может решаться либо апо-фатически через деконструкцию любого произведенного рациональными методами посюстороннего синтеза, либо катафатически — как прямое указание на то, что каждому теологическому высказыванию пред лицом будущей полноты всегда присуща ограниченность.
Но имманентно ощущаемая теологией эсхатологическая напряженность не должна приводить к отвержению мира, бегству от него. Такие «концепции эсхатологии и культуры... отвергаются христианским опытом Откровения и истории» [Федотов, 2014, 221]. Так же точно Церковью, как правило, не принимается или, в худшем случае, осуждается как чуждая ей такая теология, в которой логическая безупречность и красота аналитических процедур и доказательств приобретают первостепенную важность, а вопрос о том, ведет ли ко спасению рассматриваемое явление, перестает быть главным. Так было, например, в IV в. с Аэцием, предлагавшим, с его точки зрения, логически стройные схемы, объяснявшие суть Божественной природы. С определенной степенью допущения можно даже сказать, что чем меньше в теологии сотериологической озабоченности, тем больше она приближается к философии, становясь философской теологией. Для последней в данном утверждении нет никакого пейоративного смысла. Она также может выполнять свои важные для Церкви функции. Как считает В. К. Шохин, к таковым относятся обоснование предметов веры (апологетическая функция) и их прояснение (герменевтическая функция) (см. подр.: [Шохин, 2014, 77]). Но при этом она, по утверждению автора, принципиально «интерконфессиональна» [Шохин, 2014, 59] и представляет собой «интеркультуральный философский дискурс» [Шохин, 2014, 62]. Так, составители фундаментального «Оксфордского руководства по философской теологии» не ограничиваются только христианским теизмом, но на равных основаниях работают в области нехристианской философской теологии, включая в нее исламский, иудейский и даже конфунцианский контексты (см. подр.: [Шохин, 2014, 62]).
Вторым нормативным методологическим принципом теологии, также имеющим ценностное содержание, можно назвать наличие «опыта церковности, как единства веры и жизни» [Хондзинский, 2015, 11], который позволяет исследователю принять «позицию Церкви как свою собственную» [Антонов, 2023, 18]. Вряд ли стоит упрекать богословов в наличии так сформулированного методологического принципа. Он очень похож на специфическую форму теоретической нагруженности исследователя, о которой говорили М. Полани и Н. Хэнсон (см.: [Летов, 2011]). Но здесь неизбежно появление ряда встречных вопросов. Например, как выявить эту самую «позицию Церкви»? Однако, как уже было указано выше, далеко не по всем вопросам ее можно однозначно установить. Количество истин, догматизированных Церковью, невелико. С безусловным нормативным авторитетом таких истин все понятно. Но по многим вопросам, актуальным для сегодняшнего человека (например, о некоторых биоэти-ческих проблемах и целом ряде других), ни в Библии, ни в соборных определениях нет ни малейшего упоминания. Поэтому в других случаях можно говорить лишь о широком поле того, во что «верили повсюду, всегда и все» (Викентий Лиринский), либо о consensus partum по тому или иному вопросу. По вопросу о содержании данного понятия имеется обширная исследовательская литература. И, хотя его общего определения в богословии так и не выработано, но все сходятся на том, что «согласие Отцов» не должно пониматься как единогласие всех свв. отцов по всем вероучительным вопросам. Оно скорее «подразумевает их общность в главном при возможных разногласиях по отдельным пунктам» [Иларион Алфеев, 2000, 98]. Кроме этого, норма, зафиксированная в творениях свв. отцов или даже соборных определениях, может быть выражена по-разному на терминологическом уровне. И порой, как это было, например, с взаимным согласованием восточных и западных триадологических определений, требовались десятилетия и даже столетия напряженной богословской работы, чтобы понять, что речь идет об одной и той же норме веры. Возможно и обратное. Выявленная на каком-то этапе норма в другой исторический период может потерять свой авторитет и быть отвергнута. И способно ли частное богословское мнение приобрести статус нормы? Указанные трудности проистекают из понимания нормы как ценности, окончательно несводимой к исчерпывающему кодексу или своду формальных правил. Процесс выявления такой нормативности — это скорее открытый динамический процесс.
Неопределенности с выявлением «позиции Церкви» добавляет также и то, что оно тесно связано с понятием «авторитет». Мнение авторитетного богослова будет иметь, конечно, решающее значение. Хотя даже канонизация того или иного автора не сообщает всем его мыслям характера непогрешимых высказываний. К тому же позиция богослова, пусть и являющегося авторитетом на данном этапе, может измениться. Он в своем духовном развитии может отойти от единства Церкви (как, например, Тертуллиан). Отдельные его взгляды могут быть соборно осуждены (как, например, в случае с Оригеном). Или такой богослов может потерять веру (как это случилось с известным современным патрологом П. Адо). Однако все эти личные метаморфозы не отменяют того, что было сделано/сказано/написано этим богословом в то время, когда он принимал «позицию Церкви как свою собственную» и воспринимался церковным сообществом в качестве авторитетного выразителя мнения. Сделанное/ска-занное/написанное ими уже вне Церкви, если и будет восприниматься ею, то с определенными оговорками. В целом эту мысль хорошо выразил Н. И. Сагарда, говоря, что «отцам Церкви каждому в отдельности не усваивается богодухновенности пророков и апостолов, а при суждении об их авторитете неизбежно получает совершенно законное место известная доля субъективизма, который может регулироваться такими соображениями» [Сагарда, 2004, 131].
Далее необходимо сказать о нормативности локальных традиций. В каждой из таких традиций есть те принципы богословствования, которые воспринимаются ее сторонниками как нормативные. Это, например, апофатическое умолчание отцов Древней Церкви, христианский эллинизм прот. Г. Флоровского или принципы, которые определяют то, что принято называть литургическим и евхаристическим богословием прот. А. Шмемана. Как уже сказано, даже если на определенном этапе они кажутся адекватным выражением христианской истины, то позже могут быть переосмыслены или подвергнуты критике. Ярким примером является методологический призыв «возврата к Отцам» и обращения к «христианскому эллинизму», выдвинутые прот. Г. Флоровским. Несмотря на то, что эти идеи были широко восприняты и поддержаны большинством православных (и не только) богословов, они с самого начала подвергались критике и необходимой коррекции. При этом в синхронном срезе такие нормы играют важнейшую роль. Безусловно, тождества с известной идеей философии науки о принципиальной фальсифицируемости теорий и гипотез здесь нет, хотя какие-то отдаленные параллели все же просматриваются. Однако более подробный разбор данного вопроса в рамках настоящей статьи не представляется возможным. Его дальнейшее обсуждение в контексте проблемы нормативности требует отдельного исследования.
Если рассматривать метод в узком смысле, то тут вопрос о методологической нормативности в теологии решается проще. Речь идет о конкретной работе богослова с эмпирическим материалом, его «обработке» и подготовке для обобщений и выводов. Этот аспект методологической теологической нормативности можно назвать инструментальным. Богословы во все времена пользовались общепринятыми в науке методами смежных наук, воспринимая их для себя в указанном значении как нормативные. Достаточно вспомнить Оригена и то, как он прибегал к тому, что сегодня мы бы назвали филологическим и лингвистическим анализом текста. Таких случаев в истории теологии бесчисленно много. В наше время невозможно представить фундированную богословскую публикацию, автор которой не использует общефилософские, исторические, филологические, лингвистические, социологические, религиоведческие и т. д. методы работы с эмпирическими данными. На этом уровне научной работы для богослова нет ограничений. Интересный в этом отношении пример имел место во время дискуссии, произошедшей во время недавней защиты докторской работы по исторической теологии. Тезис автора диссертации состоял в том, что после революции в России церковный народ не принял позицию обновленцев, распознав в них явление, чуждое Церкви. На вопрос о том, какими же методами удалось установить «позицию церковного народа», диссертант сослался на «Обзоры политического состояния СССР», которые ежемесячно готовились для Политбюро органами ГПУ-ОГПУ с 1922 по 1934 г., то есть теми самыми структурами, которые вели работу по физическому уничтожению канонической Церкви. Эти «неспецифические» для Церкви источники «передавали состояние дел в стране и деятельность органов госбезопасности не столько такими, какими они были на самом деле, сколько такими, какими их хотели представить в глазах партийного начальства» [Мазырин, 2023, 19]. В этом смысле их невозможно «упрекнуть» в каком-то подыгрывании Церкви. Но даже опираясь на них, можно сделать вывод о том, что церковный народ в массе своей отверг обновленцев [Мазырин, 2023, 19, 111-112], а саму обновленческую структуру — характеризовать как церковный раскол. То есть, используя исторический источник так, как это сделал бы любой историк, богослов делает на его основании историко-теологическое обобщение.
И наконец, несколько слов о том, что М. Кайзер называет объектной нормативностью. Поскольку в данном случае речь идет об эпистемических или социальных нормах науки, то, безусловно, принятый в научном сообществе этос «производства» новых научных данных полностью освоен и усвоен теологами. В данном случае речь идет о том, каким эмпирически-статичным нормам и правилам, регулирующим жизнь научного сообщества, необходимо следовать. Каких-то теологических «особенностей» в этом смысле, наверное, и не существует.
Итак, понятие нормы в науке довольно поздно стало предметом отдельных размышлений. Произошедший в XX в. практический поворот в философии науки позволил взглянуть на это понятие с разных точек зрения, выделив несколько видов нормативности, которые могут находиться в позиции взаимной дополнительности. В норме также можно усмотреть антиномию ее сущностной (предписательной) стороны и ценностной составляющей, указывающей на должное.
Важную роль понятие нормы играет и в теологическом исследовании, поскольку в нем выявляется норма религиозного сознания, с которой, как представляется, богослов и призван производить соотнесение изучаемого им явления. Во-первых, богословская норма может пониматься как зафиксированное в Писании и части Предания Откровение, принимаемое большинством верующих в качестве незыблемого основания духовной жизни. Для богословия это одновременно и сверхэпистемиче-ская норма, и зафиксированный «эталон». Во-вторых, рядом с ней в разные времена существовали локальные нормы, принимаемые за таковые тем или иным сообществом, научной школой или группой верующих. Они, так же как и Норма, фиксируются верующим сообществом или богословской школой и могут быть предъявлены, но, в отличие от нее, они подвержены изменениям. Их соотношения можно кратко описать как родо-видовые. В-третьих, богословская норма — это не только «что», это еще и «как» теолог проводит процедуру богословского соотнесения. И здесь можно различить ее аксиологические принципы (сотериологическая направленность исследования, сознательное отождествление своего опыта с опытом жизни церковного сообщества, следование принятым в нем нормам) и ее эпистемически-статическую инструментальную сторону, фиксирующую принимаемый научным сообществом свод методов работы с эмпирическим материалом. Если первые не могут быть универсальными для всех, то вторые, наоборот, являются для теологов общими с другими научными дисциплинами (прежде всего социогуманитарными). Наконец, в-четвертых, в том, что касается объектной нормативности, или того, что и как регламентирует общепринятый научный этос, то в этом современные теологи ничем не отличаются от других ученых-исследователей.
В данной статье за рамками рассуждений о богословской норме остались некоторые важные вопросы, в частности: об опасности превращения теологической нормы в некое подобие мифа и «новой богословской метафизики», которая будет вступать в конфликт с принятыми представлениями о науке, о конфессиональности современного теологического исследования и его связи с институтами Церкви (и в смысле magisterium ecclesiasticum, и в том смысле, в котором прот. П. Хондзинский писал о русском внеакадемическом богословии в XIX в. [Хондзинский, 2017]), о непростой дилемме, встающей перед богословом, между следованием норме, указывающей на пределы допустимого, и его стремлением к творческой интерпретации и дальнейшего развития богословия, т. е. богословским консерватизмом и модернизмом. Но данные вопросы следует подробно осветить в отдельном исследовании.
Список литературы Норма в теологии
- Антонов (2023) — Антонов Н. К. Богословское осмысление свт. Григорием Назианзиным темы священства в социокультурном контексте поздней Античности (на материале Слова 3): дис. … канд. теологии: 5.11.1 / ПСТГУ. М., 2023. 231 с.
- Борисов, Мельник (2006) — Борисов Г. В., Мельник Д. В. Позитивный и нормативный подходы в экономической науке // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2006. № 2. С. 17–27.
- Гнедич (2006) — Гнедич П. В. Догмат искупления в русской богословской науке (1893– 1944). М.: Изд-во Сретенского м-ря; МДА. 2007. 493 с.
- Григорян — Григорян А. В. Феномен богодухновенности Библии в современном православном богословии // Богослов.ru. Научный богословский портал. URL: https://bogoslov.ru/article/6169914?ysclid=lumc5lv0jg700241206#_ftnref2 (дата обращения: 29.09.2024).
- Иларион Алфеев (2000) — Иларион (Алфеев), игум. Святоотеческое наследие и современность // Церковь и время. 2000. № 2 (11). С. 95–131.
- Князев (1951) — Князев А., прот. О боговдохновенности Священного Писания // Православная мысль. Труды православного Богословского института в Париже. 1951. Вып. VIII. С. 114.
- Кун (2003) — Кун Т. Структура научных революций. М., 2003. 605 с.
- Кускова (2017) — Кускова С. М. Проблема нормативности актов сознания // Мир человека: нормативное измерение. 5. Постижение нормативности и нормативность познания. Сборник трудов международной научной конференции. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2017. C. 42–47.
- Летов (2011) — Летов О. В. Проблема научной объективности в постпозитивистской философии науки: концепции Майкла Полани и Норвуда Хэнсона: автореф. дис. … докт. филос. наук: 09.00.03. М., 2011. 42 с.
- Мазырин (2023) — Мазырин А. В. Обновленческий раскол в Русской Церкви и Православный Восток: специфика взаимоотношений неканонической организации с Константинопольской Патриархией и другими Поместными Церквами: дис. … докт. теологии: 5.11.2 / ПСТГУ. М., 2023. 496 с.
- Михайлов (2016) — Михайлов П. Б. Отечество земное или небесное? К проблеме локализации Предания // Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2016. Вып. 3 (65). С. 9–24.
- Наторп (1911) — Наторп П. Философская пропедевтика. Общее введение в философию и основные начала логики, этики и психологии. М.: Н. Н. Клочков, 1911. 118 с.
- Невважай (2017) — Невважай И. Д. Как возможна общая теория норм? // Мир человека: нормативное измерение. 5. Постижение нормативности и нормативность познания. Сборник трудов международной научной конференции. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2017. С. 17–29.
- Поппер (2002) — Поппер К. Р. Объективное знание. Эволюционный подход. М., 2002. 381 с.
- Сагарда (2004) — Сагарда Н. И. Лекции по патрологии, I–IV века: Пособие по курсу патрологии для духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. М.: Изд. Совет РПЦ, 2004. 752 с.
- Спасский (1895) — Спасский А. Аполлинарий Лаодикийский. Историческая судьба сочинений Аполлинария. Сергиев Пасад, 1895. С. 461.
- Федотов (2014) — Федотов П. Г. Эсхатология и культура // Федотов П. Г. Собрание сочинений: в 12 т. М.: Мартис, 2014. Т. 7. С. 217–227.
- Хаджаров (2014) — Хаджаров М. Х. Норма как предпосылочно-регулятивный механизм научного познания // Вестник Оренбургского государственного университета. 2014. № 3 (164). С. 62–66.
- Хондзинский (2015) — Хондзинский П., прот. Русское вне-академическое богословие XIX в.: генезис и проблематика: автореф. дис. … докт. богословия / ПСТГУ. М., 2015. 58 c.
- Хондзинский (2017) — Хондзинский П., прот. Церковь не есть академия. Русское вне- академическое богословие XIX века. М.: Изд-во ПСТГУ. 2017. 478 с.
- Шохин (2006) — Шохин В. К. Философия ценностей и ранняя аксиологическая мысль. М.: Ид-во РУДН, 2006. 455 с.
- Шохин (2014) — Шохин В. К. Философская теология и основное богословие // Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богословие. Философия. 2014. Вып. 1 (51). С. 57–79.
- Balthasar (1988) — Balthasar H. U. von. Kosmische Liturgie: Das Weltbild Maximus das Bekenners. Einsiedeln; Trier, 198. 200 s.
- Behr (2021) — Behr Jh. From Synthesis to Symphony // The Living Christ. The Theological Legacy of Georges Florovsky / Ed. by J. Chryssavgis and B. Gallaher. London: T&T Clark, 2021. P. 279–288.
- Chryssavgis (2021) — The Living Christ. The Theological Legacy of Georges Florovsky / Ed. by J. Chryssavgis and B. Gallaher. London: T&T Clark, 2021. 492 p.
- Congar (1968) — Congar Y. A History of Theology. Doubleday, 1968.
- Farley (1994) — Farley E. Theologia: The Fragmentation and Unity of Theological Education. Minneapolis, MN: Augsburg Fortress, 1994. IX + 220 p.
- Kaiser (2019) — Kaiser M. Normativity in the philosophy of science // Metaphilosophy. 2019. Vol. 50. № 1/2. P. 36–62. DOI: https://doi.org/10.1111/meta.12348/
- Kalaitzidis (2010) — Kalaitzidis P. Between the “Return to the Fathers” and the need for a Modern Orthodox Theology // St. Vladimir’s Theological Quarterly. Vol. 54. No. 1. 2010. P. 5–36. (Рус. пер.: Калаицидис П. От «возвращения к отцам» к необходимости современного православного богословия // Страницы: богословие, культура, образование. 2012. Т. 16. № 3. С. 326–353).
- O’Neill (1996) — O’Neill O., Korsgaard C. Introduction // The Sources of Normativity. Cambridge University Press: 1996. XVI + 273 p.
- Regt (2019) — Regt H. W., de. From explanation to understanding: normativity lost? // Journal for General Philosophy of Science. 2019. Vol. 50. № 3. P. 327–343. DOI: 10.1007/s10838–019–09477–3.
- Schmemann (1972) — Schmemann A. Russian Theology: 1920–1972. An Introductory Survey // St. Vladimir’s Theological Quarterly. 1972. Vol. 16. No. 4. P. 172–194.
- Soler (2014) — Soler L., Zwart S., Lynch M., Israel-Jost V., eds. Science After the Practice Turn in the Philosophy, History, and Social Studies of Science. New York: Routledge, 2014. 354 p.