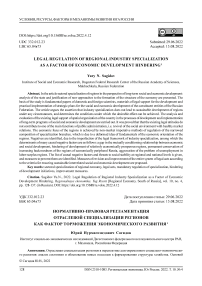Нормативно-правовая регламентация отраслевой специализации регионов как фактор торможения экономического развития
Автор: Сагидов Юрий Нурмагомедович
Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu
Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России
Статья в выпуске: 4 т.10, 2022 года.
Бесплатный доступ
Отраслевая специализация регионов в перспективе долговременного социально-экономического развития: анализ состояния и обоснование новых подходов к формированию структуры хозяйства. Основой исследования являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых, материалы нормативно-правового сопровождения разработки и практической реализации стратегических планов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. В статье аргументируется утверждение о том, что отраслевая специализация не при любых обстоятельствах приводит к устойчивому развитию регионов, и определяются те условия, при которых может быть достигнут желаемый эффект. Выполнены анализ и оценка существующего нормативно-правового сопровождения пространственного обустройства страны в процессах разработки и реализации долгосрочных программ социально-экономического развития. Отмечено: существующие нормативно-правовые установки не способствуют исполнению одной из основных функций государственного управления - возрождение общественной среды со здоровыми рыночными отношениями; хозяйственная ориентация регионов достигается нерыночными императивными методами регламентации зауженного состава отраслей специализации, что обусловлено деформированным представлением о сути принципиальных основ хозяйственной ориентации регионов. Выявлены негативы, обусловленные несовершенством нормативно-правовых основ отраслевой специализации, среди которых определителями множества причинно-следственных отрицательных факторов являются: разрыв взаимно обусловливающей связи между экономическим и социальным развитием, торможение развития относительно экономически состоятельных регионов, перманентная консервация нарастающей консервации отсталости регионов экономически периферийной России, усугубление проблемы безработицы в трудоизбыточных регионах. Дан перечень причинно-следственных отрицательных факторов и угроз сохранению социальной стабильности на региональном и национальном уровнях и определены меры их предотвращения. Предложены меры ревизии и совершенствования всей системы нормативно-правовых актов по критериям обеспечения устойчивого взаимоувязанного социального и экономического развития.
Отраслевая специализация экономики регионов, нормативно-правовые акты, императивная регламентация специализации, торможение инициатив развития, меры совершенствования
Короткий адрес: https://sciup.org/149141725
IDR: 149141725 | УДК: 332.012.23 | DOI: 10.15688/re.volsu.2022.4.12
Текст научной статьи Нормативно-правовая регламентация отраслевой специализации регионов как фактор торможения экономического развития
DOI:
В конце XVIII – начале XIX в. были сформированы принципы специализации предпринимательской деятельности на выпуск массовой продукции и предоставление услуг. Это нашло отражение в Теории абсолютных преимуществ А. Смита [Смит, 1993] и ее развитии Д. Риккардо в теории относительных преимуществ. Основные постулаты Теорий сводятся к тому, что для обеспечения экономического роста производитель, например, регион должен выходить на торговую реализацию такого сочетания производимой им продукции и услуг, при котором возможно получить максимум доходов при наименьших издержках. Такой подход определяет необходимость развития отраслевой специализации экономики регионов на основе использования ресурсных условий, обеспечивающих конкурентные преимущества.
Отечественные ученые не лишены понимания о необходимости учитывать в решении проблемы пространственного обустройства экономики страны постулаты указанных теорий и вносят свой научный вклад применительно к российским условиям. В советский период научную школу отраслевой специализации территорий представлял академик Н.Н. Некрасов, являвшийся адептом методологии комплексного экономического районирования хозяйства на всем пространстве Советского Союза [Некрасов, 1978]. В пос-лесоветский период, под руководством академика А.Г. Гранберга, возглавлявшего Совет по развитию производительных сил (СОПС), были разработаны подходы к определению совокупности факторов, обусловливающих развитие отраслевой специализации территорий России [Гранберг, 2006: 324]. Единомышленники научной школы академика А.И. Татаркина исследуют проблему специализации регионов во взаимосвязи с проблемой перехода регионов на саморазвитие [Татаркин, 2016; Дорошенко, 2009; Лаврикова и др., 2010]. Существенный вклад внес профессор В.Н. Лаженцев [Лаженцев, 2013: 10–14], рассматривающий территориальное развитие в экономико-географическом аспекте.
Однако эффективность теоретических изысков – это одна сторона проблемы, а другая – ее практическое решение. Для нынешнего состояния России актуальность проблемы специализации регионов, как одного из инструментариев системы экономического обустройства, приобретает нарастающее значение по мере того, как страна теряет позиции в мировой экономике. По статистическим данным ЦРУ и МВФ Россия сошла на 11-е место в мировой экономике и за- нимает 52-е место по производительности труда. В настоящее время развитие отраслевой специализации сопряжено как с торможением экономического развития относительно развитых регионов, так и перманентным сохранением отсталости регионов экономически периферийной части России при динамизировано нарастающих различиях в социально-экономическом положении ее регионов, чреватого угрозами потери социальной стабильности [Голяшев, Григорьев, 2014; Белл, 2004].
Практическое решение проблемы с позиций достижения экономической эффективности зависит от инструментариев государственного управления – нормативно-правовых актов (НПА), которые в зависимости от их совершенства могут оказывать на рост экономической эффективности альтернативные побуждения – стимулирующие или тормозящие. В представленном исследовании выполнена характеристика влияния НПА на развитие отраслевой специализации на примере шести регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Это регионы, которые Аналитическим Центром при Правительстве РФ в синтетической классификации по показателям социально-экономического положения и типов отраслевой специализации включены в группу, означенную как «Менее развитые аграрные» [Зубаревич, 2022; Арсланов, 2016: 37–39]. Это: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика 2.
Ставятся задачи: характеристика влияния действующих НПА на развитие отраслевой специализации экономики регионов; оценка НПА с позиций качественного формирования системы организации и управления хозяйством страны; определение мер совершенствования НПА, обеспечивающее их позитивное влияние на развитие хозяйственной ориентации регионов.
Характеристика воздействия нормативно-правовых актов на развитие отраслевой специализации экономики регионов
С 2008 г. все НПА разрабатываются на основе методологических подходов к подготовке программ обустройства экономики страны, заложенных в «Концепции долговременного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (КДР – 2020). В от- ношении всех регионов страны в Концепции и других производных нормативных документах определена хозяйственная ориентация на основе установки конкретизированного для каждого региона состава отраслей специализации. Выполнению этой установки придается значение соблюдения государственной экономической политики, что в НПА предусматривается в качестве критерия оценки деятельности руководства и бизнеса регионов. Так, предоставление межбюджетных трансфертов, грантов, федеральных инвестиций на развитие социальной сферы регионов и других видов преференций ставится в зависимость от этой оценки [Указ Президента РФ № 13, 2017].
Нормативная регламентация отраслевых сфер, являющаяся по своей сути ограничителем диверсификации отраслевой структуры, мотивируется необходимостью организации экономической деятельности регионов округа на основе приоритета использования их природно-климатических ресурсов. Поэтому в отношении регионов СКФО в нормативных актах предусматривается необходимость воздерживаться от интенсивной интервенции инвестиций в расширение сфер деятельности, особенно касающихся размещения промышленных производств, не имеющих отношения к АПК 3. Обосновывается это следующими причинами: сохраняющимися угрозами терроризма; наличием межэтнических конфликтов; отсутствием значимых уникальных и масштабных природных ресурсов, не позволяющих за счет развития их добычи и переработки обеспечить высокие темпы роста валового регионального продукта; слабостью исходной экономической базы; несоответствующим профессиональным уровнем рабочей силы; высоким уровнем безработицы и низким уровнем денежных доходов. Все перечисленное требует федеральных вспомоществований в целях обеспечения стабильности в регионах.
То есть все установки по составу отраслей специализации, критерии оценки и материальное и административное побуждение выполнения этих установок имеют характер императивной регламентации, практически отрицающей возрождение других каких-либо видов деятельности, не соответствующих регламентируемому составу отраслей.
Развитие отраслевой специализации регионов страны представляет собой способ долговременной организации хозяйства регионов, реализация которого должна сопровождаться норма- тивно-правовыми установками двух процессов – разработки стратегических планов социальноэкономического развития и их исполнения в хозяйственной деятельности. То есть речь идет об использовании в управлении экономики инструментария стратегического планирования социально-экономического развития.
Составление Стратегий долговременного развития регионов сопряжено с косвенным и прямым учетом установок НПА. Так, в Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2035 г. приводится перечень 59 НПА, вроде бы принятых в основу разработки Стратегии. На самом деле разработчики программ всех регионов СКФО, в том числе и Ставропольского края, непосредственно в рабочем порядке руководствуются 4–8 нормативноправовыми актами, на которые требуется сосредоточить основное внимание. Среди них, как было сказано, базисную методологическую основу имеет КДР – 2020. Кроме того, все регионы руководствуются Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [Федеральный закон № 172-ФЗ, 2014], Указом Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» [Указ Президента РФ № 13, 2017], Распоряжением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 г.» [Распоряжение Правительства РФ № 207-р, 2019], «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» [Прогноз ... , 2013] и Приказом Министра экономического развития РФ «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации» [Приказ МЭР РФ № 132, 2017].
Вряд ли стоит отрицать необходимость хозяйственной специализации регионов. Но должна ли она быть безоговорочной, если может стать существенным сдерживающим фактором социально-экономического развития регионов? Этот вопрос, как и отраслевое ограничение, касается всех регионов, как экономически состоятельных, так и регионов экономически периферийной части России. Ниже изложим видение, обосновывающее необходимость гибкости в подходе к инструментарию хозяйственной специализации регионов.
В качестве примера стратегического планирования рассматривается Республика Дагестан, которая, являясь в советский период, как и все регионы СКФО, субъектом Федерации с развитой индустрией, понесла существенные потери в промышленности и, как следствие, в экономическом потенциале. А именно, если в советский период в структуре ВРП Дагестана объем промышленной продукции достигал 22, то в настоящее время он не превышает 7 %. Республика оказалась аграрно-ориентированной, но не потому, что были проведены какие-то меры по специализации, которые, как правило, должны проводиться в порядке улучшения пространственного обустройства [Натхов, Полищук, 2017; Са-гидов, 2021; Багян, 2020], а потому, что Дагестан потерял промышленность.
Потеря промышленного потенциала привела к экономической несостоятельности Дагестана. Сохранение социальной стабильности в регионе поддерживается не результатами собственной экономической деятельности, а за счет вспомоществований Федерального центра, предоставляемых на основе конституционной нормативно-правовой гарантии поддержки регионов государством в случае их экономической несостоятельности. Стоит отметить, что в таком состоянии находятся все регионы СКФО уже более тридцати лет. Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 г. (Стратегия РД – 2030) составлена на основе перечисленных выше НПА, предписывающих направленность на развитие отраслей только аграрной и рекреационно-туристической отраслевой ориентации. Заполнение пустоты от потери промышленного потенциала не предусматривается.
Возникает сомнение: является ли Стратегия РД – 2030, как и программы долговременного развития всех регионов СКФО, стратегией развития. По данным Росстат количество рабочей силы в Дагестане составляет 1 287 тыс. чел.; численность занятых трудом – 1 022,9; уровень участия в составе рабочей силы – 55,1 % (РФ – 62,3 %); уровень общей трудовой занятости населения – 52 % (РФ – 58,4 %). По номенклатуре приоритетных проектов аграрной и туристско-рекреационной направленности развития, которая предусматривается в Стратегии РД – 2030, немыслимо трудоустроить около 260 тыс. чел., так как на это количество рабочей силы нет рабочих мест. В Стратегии РД – 2030 предусмотрены темпы роста экономики в 2,5 раза превышающие средние темпы роста в стране. А если ставить задачу достижения среднего по России уровня социально-экономического положения, то необходимы среднегодовые темпы роста экономики в 7–8 раз превышающие средние по стране, что при суженой отраслевой специализации тоже немыслимо.
Имея в виду то, что количество экономически несостоятельных регионов в России постоянно растет, возможности поддержки социальной стабильности в регионах на основе реализации гарантий государственных вспомоществований в перспективе времени представляются не безграничными. Н.В. Зубаревич связывает поддержание социальной стабильности в регионах настолько долгим, насколько Россия останется в состоянии тлеющего процесса экономической стагнации или перейдет в резкое падение [Kusnets, 1966; Plotnikov et al., 2015].
Следовательно, Стратегия РД – 2030 представляет собой не модель экономического развития Дагестана, а, учитывая наличие нормативно-правовых социальные гарантий, не связанных с экономическим развитием, является моделью только поддержания социальной стабильности и, как следствие, моделью сохранения отсталости.
Такова участь и других регионов СКФО. По данным агентства «РИА Рейтинг», в целом СКФО занимает последнее восьмое место, отставая от относительно лидирующего Дальневосточного федерального округа по уровню объема ВРП на душу населения в 4,6 раза, инвестиций в основной капитал – в 3,6 раза, основных фондов – в 5,3 раз. Экономической отсталости регионов СКФО адекватно социальное положение населения, имеющее среди регионов России: самые низкие показатели по денежным доходам и номинальной заработной плате работников, соответственно – 67,6 и 61,0 % уровня РФ; высокий удельный вес населения с денежными доходами ниже прожиточного уровня – 17,4 %, превышающий средний показатель по стране на 5,3 %; низкий уровень трудовой занятости населения при высоком уровне безработицы, соответственно – 51,1 и 13,9 %.
Экстремальные различия в интегральных рейтингах социально-экономического положения регионов России пока не вселяют оптимизма. Во-первых, величины различий в интегральных рейтингах регионов превышают 6-кратную величину. А по некоторым отдельным показателям, например, по ВРП на душу населения, различия перекрывают 39-кратную величину. Во-вторых, показатели отражают тенденцию нарастания во времени неравенства в социально-экономическом положении регионов.
Но возникает еще одно сомнение: является ли стабильность, достигаемая федеральными вспомоществованиями, действительно стабильностью. Из-за ограничения сфер экономической деятельности в регионах СКФО существенно возросла напряженность на рынке труда. Создалась ситуация безвозвратного исхода людей из округа в другие регионы страны и в зарубежье c целью трудового устройства. Особенно высокий коэффициент отрицательного миграционного прироста имеет Республика Северная Осетия – Алания – -49 (в России – +9). Если иметь в виду, что аграрное развитие должно идти по пути технологического прогресса, то перспектива трудовой занятости населения представляется еще менее оптимистичной. Так, в странах с развитой агрокультурой в сельском хозяйстве занято 4 % рабочей силы страны, а в регионах СКФО этот показатель превышает 15 %. Выходит, что технологический прогресс в аграрной сфере будет способствовать росту напряженности на рынке труда.
Авторы Стратегий регионов СКФО вынуждены придерживаться базисной установки КДР – 2020, которая в качестве одной из мер снижения безработицы и напряженности на рынке труда предусматривает выезд людей из трудоизбыточных регионов в другие регионы страны. То есть речь идет об исходе из регионов СКФО наиболее экономически пассионарной и интеллектуально облагороженной части населения. Поэтому при наличии исхода населения из регионов стабильность, поддерживаемая социальными гарантиями, не связанными с результатами экономической деятельности, в принципе не может считаться достигнутой, быть надежной и устойчивой.
Трудно представить, что Япония XIX в. стала бы нынешней великой экономической державой, если бы ее экономика оставалась закрытой и сохраняющей традиционную аграрную ориентацию. То же можно сказать о всех так называемых странах Новой индустрии – Китайской Республики (Тайвань), Сингапура, Южной Кореи, Малайзии, которые в целях обеспечения полной трудовой занятости населения не ограничились развитием отраслей, использующих только местные природные ресурсы, а развили многосекторную экономику с многополярными внешними интеграционными связями. Автомобили, произ- водимые в этих странах, электротехническое, полупроводниковое и электронное оборудование, продукция информационно-коммуникационных технологий и другие инновационные товары присутствуют на рынках многих стран мира и в том числе в России.
Международный опыт свидетельствует и ООН дает определение, что развивающимися являются те государственные формирования, которые находятся на пути индустриализации. Для регионов СКФО воспроизводство потенциала промышленности до уровня советского периода имеет двойное значение. Во-первых, промышленные предприятия были бы поглотителями безработицы. Во-вторых, промышленная сфера является генератором технической культуры, облаком которой охватываются все сферы экономической деятельности вплоть до бытовой. Та же аграрная сфера без такой культуры не может быть процветающей.
Но развитие промышленности – это не панацея. Могут быть и другие отраслевые вариации. СКФО является приграничным макрорегионом и находится в перекрестье двух международных транспортных коридоров – «Север – Юг» и «Восток – Запад». Это благоприятный фактор для достижения многополярной направленности экономических связей, как внутренних, так и внешнеэкономических, в частности, для размещения логистических центров международной торговли, возрождения и развития индустриального транзита, создания международных финансово-инвестиционных центров и пр. Однако есть примеры того, что инициативы руководства и предпринимателей регионов, направленные на возрождение промышленных предприятий и структур внешнеэкономической деятельности, погашаются на корню их зарождения в федеральных кабинетах со ссылкой на НПА, императивно регламентирующих аграрную направленность развития регионов СКФО.
Регионы России не являются суверенными обладателями прав внешнеэкономической деятельности. Реализация их инициатив может осуществляться только с разрешения и участия федеральных органов управления. Доверие Центра внешнеэкономической деятельности регионов во многом связывается с их экономической состоятельностью. Именно поэтому ни один из регионов СКФО не может получить и не получает такой же ангажемент доверия, как, например, Калужская область. То есть на практике не соблюдается принцип равных возможностей для реа- лизации установленных экономических, политических и социальных прав на всей территории страны, сформулированный в Указе Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года».
Выводы
Сложившаяся в России система развития отраслевой специализации экономики регионов несостоятельна, поскольку имеет корневую основу – направленность экономических и политических преобразований на сохранение экстрактивного институционального режима, а не на создание инклюзивного. Суть этих режимов отражена в трудах нобелевского лауреата D. Acemoglu [Acemoglu, Robinson, 2017] и отечественных ученых В.В. Арсланова [Арсланов, 2016], Т.В. Нат-хова и Л.И. Полищук [Натхов, Полищук, 2017]. Процесс развития специализации экономики регионов мог быть инклюзивным, если бы его организация соответствовала принципам, предусмотренным в классических Теориях абсолютных и сравнительных преимуществ. Эти принципы определялись адептами Теорий применительно к среде страны с развитой рыночной экономикой. Действующее же в России нормативно-правовое сопровождение процесса специализации регионов является продуктом обустройства во многом в соответствии с наследуемой советской моделью «Сильный центр – слабые регионы» (в ее худшем варианте исполнения), которая в постсоветских условиях оказывается малоэффективным гибридным сочетанием командной и рыночной систем организации хозяйствования [Volkov, 2015: 137–138; Sagidov, 2019].
Действующие НПА ограничивают сферы экономической деятельности, что обусловливает перманентный характер сохранения высокого уровня безработицы и, как следствие, экономической отсталости. Предусмотренная регламентация состава отраслей экономики регионов реализуется методами императивного принуждения нормативными и административными установками Федерального центра, что чуждо для рыночной экономики и на практике оборачивается угнетением инициативы управленческого и предпринимательского истеблишмента регионов в формировании сфер экономической деятельности. Особенно угнетающе влияют императивы ограничений на развитие регионов экономически периферийной части России, явно способствую- щее хозяйственными диспропорциями в целом в стране и регионах [Mareeva, 2020].
Речь не идет об отрицании значения отраслевой специализации регионов. Но процесс ее реализации должен основываться не на государственных нерыночных побуждениях, а на исполнении государством одной из главных своих функций – создания здоровой рыночной среды, при которой регионы сами будут заинтересованы в реализации своих природно-ресурсных преимуществ. Такова естественная логика бизнеса; при наличии условий здоровой рыночной среды его не надо принуждать делать то, что ему выгодно. Следовательно, функция государственного регулирования должна сводиться не к императивной регламентации мер обеспечения развития отраслевой специализации регионов, а к созданию здоровой рыночной среды, способствующей проявлению регионами собственной инициативы в развитии оптимальной структуры хозяйства на основе существующей конъюнктуры спроса и предложения.
Для трудоизбыточных регионов экономически периферийной части России критерием экономической специализации должно быть количество возможных рабочих мест, обеспечивающих трудовую занятость населения. При недостаточности вмещения рабочей силы в отрасли специализации региона бизнес при здоровых рыночных отношениях будет изыскивать по критериям спроса и предложения иные сферы приложения труда, в том числе те, которые не видны из кабинетов государственных учреждений. И в этих устремлениях структурообразующими факторами в дополнение к факторам отраслевой специализации будут не местные природно-ресурсные условия, а человеческий капитал, который сам, будучи особым ресурсом, способен привлечь для диверсификации экономики региона ресурсы развития извне, как это происходит в странах НИС.
Предлагается необходимым создать вневедомственную коалиционную программно-целевую структуру в составе представителей органов власти всех уровней, ученых разных специальностей, бизнеса и общественных организаций. Целью коалиционной структуры должна быть ревизия всех действующих НПА, обоснование и подготовка мер законотворческих инициатив по совершенствованию НПА, обеспечивающих формирование институциональной среды здоровых рыночных отношений. В части, касающейся развития отраслевой специализации регионов, совершенствование НПА должно осуществлять- ся по критериям: исключение развития отраслевой специализации экономики регионов мерами нерыночного принуждения; достижение взаимосвязанного социального и экономического развития регионов на основе рационального сочетания развития отраслей специализации с отраслями диверсификации; обеспечение полноты трудовой занятости населения; рост роли инициатив самих регионов в генерации собственных и привлечении внешних инвестиционных ресурсов развития с возможностью использования эффекта синергии федерального обустройства страны, предполагающего содействие Центра в сближении уровней развития регионов.
Автор не лишен чувства реальности. Создание предлагаемой коалиционной группы для ревизии НПА возможно лишь при наличии общественной силы продвижения идеи. Но это проблема, требующая отдельного рассмотрения.
Список литературы Нормативно-правовая регламентация отраслевой специализации регионов как фактор торможения экономического развития
- Арсланов В. В., 2016. Инклюзивные институты – основной фактор устойчивого роста? Статья 1 // Общественные науки и современность. № 4. С. 36–47.
- Багян Г. А., 2020. Пути решения актуальных проблем государственного управления в Российской Федерации // Modern Science. № 5–1. С. 450–454.
- Белл Д., 2004. Грядущее постиндустриальное общество. М.: Academia. 944 с.
- Голяшев А. В., Григорьев А. М., 2014. Типы российских регионов: устойчивость и сдвиги в 2003–2013 гг.: доклад в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации. URL: https://ac.gov.ru/files/publication/a/4363.pdf (дата обращения: 25.05.2022).
- Гранберг А. Г., 2006. Основы региональной политики. М.: ГУ ВШЭ. 608 с.
- Дорошенко С. В., 2009. Саморазвитие региона в контексте экономического эволюционизма. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13616371 (дата обращения: 19.04.2022).
- Зубаревич Н. В., 2022. В зоне риска четверть населения страны. URL: https://www.youtube.com/watch?v=BxuOlaz_PbY (дата обращения: 25.05.2022).
- Лаврикова Ю. Г., Акбердина В. В., Душин А. В., Сидоров Е. Н., Татаркин Д. А., 2010. Регионы России: классификация по признаку саморазвития // Региональная экономика: теория и практика. № 19 (154). С. 2–15.
- Лаженцев В. Н., 2013. Территориальное развитие как экономико-географическая деятельность: (Теория, методология, практика) // Экономика региона. № 1. С. 10–20. DOI: 10.17059/2013-1-1
- Натхов Т. В., Полищук Л. И., 2017. Политэкономия институтов и развития: как важно быть инклюзивным // Журнал Новой экономической ассоциации. № 3 (35). C. 12–32. DOI: 10.31737/2221-2264-2017-35-3-1
- Некрасов Н. Н., 1978. Региональная экономика: Теория, проблемы, методы. 2-е изд. М.: Экономика. 343 с.
- Приказ Министра экономического развития РФ «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации» от 23 марта 2017 г. № 132, 2017. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/strateg_planirovanie/normativnoe_obespechenie_strategicheskogoplanirovaniya/prikaz_minekonomrazvitiya_rossii_ot_23_marta_ 2017_g_132_.html
- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (публикация Минэкономразвития в марте 2013 года), 2013. URL: http://static.government.ru/media/files/41d457592e04b76 338b7.pdf
- Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 г.» от 13 февраля 2019 г. № 207-р, 2019. URL: https://base.garant.ru/72174066
- Сагидов Ю. Н., 2021. Саморазвитие регионов как фактор политического и экономического обустройства России // Региональная экономика: теория и практика. Т. 19, № 3. С. 429–450. DOI: 10.24891/re.19.3.429
- Смит А., 1993. Исследование о природе и причинах богатства народов (кн. I–III) / пер. с англ., ввод. ст. и коммент. Е. М. Майбурда. М.: Наука. 572 с.
- Татаркин А. И., 2016. Региональная направленность экономической политики Российской Федерации как института пространственного обустройства территорий // Экономика региона. Т. 12, вып. 1. С. 9–27. DOI: 10.17059/2016-1-1
- Указ Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» от 16 января 2017 г. № 13, 2017. URL: http://government.ru/docs/all/110051
- Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 20 июня 2014 г. № 172-ФЗ, 2014. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102354386
- Acemoglu D., Robinson J., 2017. Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. N. Y.: Grown Business. 571 р.
- Kusnets S., 1966. Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread. New Haven and London: Yale University Press. 529 р.
- Mareeva S., 2020. Socio-Economic Inequalities in Modern Russia and their Perception by the Population // The Journal of Chinese Sociology. № 7. URL: https://journalofchinese sociology.springeropen.com/articles/10.1186/s40711-020-00124-9
- Plotnikov V., Fedotova G., Popkova E., Kastyurina A., 2015. Harmonization of Strategic Planning Indicators of Territories’ Socioeconomic Growth // Regional and Sectoral Economic Studies. Vol. 15–20. P. 105–114.
- Sagidov Yu. N., 2019. Activization of Development of Economically Peripheral Regions of Russia // International Journal of Energy and Environmental Science. № 4 (6), pp. 77–85. DOI: 10.11648/j.ijees.20190406.12
- Volkov S. K., 2015. Social and Economic Disproportion of Development of Russian Territories // Regional and Sectoral Economic Studies. Vol. 15–20. P. 137–144.