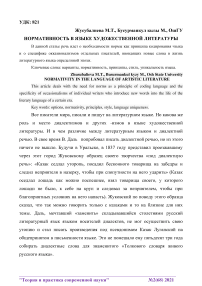Нормативность в языке художественной литературы
Автор: Жусубалиева М.Т., Бусурманкул Кызы М.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 2 (68), 2021 года.
Бесплатный доступ
В данной статье речь идет о необходимости нормы как принципа кодирования чзыка и о специфике окказионализмов отдельных писателей, ввовдящих новые слова в жизнь литературного языка определнной эпохи.
Варианты, нормативность, принципы, стиль, уникальность языка
Короткий адрес: https://sciup.org/140275982
IDR: 140275982 | УДК: 821
Текст научной статьи Нормативность в языке художественной литературы
Все писатели мира, писали и пишут на литературном языке. Но какова же роль и место диалектизмов и других -измов в языке художественной литературы. И в чем различие между литературным языком и диалектной речью. В свое время В. Даль попробовал писать диалектной речью, но из этого ничего не вышло. Будучи в Уральске, в 1837 году представил проезжавшему через этот город Жуковскому образец своего творчества «под диалектную речь»: «Казак седлал уторопь, посадил бесконного товарища на забедры и следил неприятеля в назерку, чтобы при спопутности на него ударить» (Казак оседлал лошадь как можно поспешнее, взял товарища своего, у которого лошади не было, к себе на круп и следовал за неприятелем, чтобы при благоприятных условиях на него напасть). Жуковский по поводу этого образца сказал, что так можно говорить только с казаками и то на близкие для них темы. Даль, мечтавший «заменить» складывавшийся столетиями русский литературный язык языком носителей диалектов, не мог осуществить свою утопию и стал писать произведения под псевдонимом Казак Луганский на общепринятом в письменности языке. Это не помешало ему пятьдесят три года собирать диалектные слова для знаменитого «Толкового словаря живого русского языка».
Кажется, что Ермолай, Калиныч и Хорь Тургенева говорят на хорошем народном языке, тогда как язык Полутыкина и Пеночкина хуже, беднее. Конечно это чистая иллюзия, навеянная образами, созданными великим русским писателем. Все герои Тургенева изъясняются на литературном языке с незначительными местными или социально-речевыми вкраплениями, придающими их речи неповторимый колорит. И так у всех лучших писателей. Трудно себе представить творчество Шолохова без донских словечек вроде баз (скотный двор), но произведения Шолохова - яркий образец классического литературного языка.
Для диалектной речи характерны особенности, свойственные населению только определенных местностей, а не всему народу. Воспроизведение на письме диалектной речи - дело не писателей, а лингвистов- диалектологов. Насколько писатель в своем речетворчестве свободен от законов развития языка? Как бы ни был индивидуален талантливый писатель, он не стоит вне закономерностей развития языка. Иначе будет нарушено главное: контакт с читателями, воздействие на них могуществом художественного слова. Это хорошо понимали наши классики.
Литературный язык чрезвычайно богат своими внутренними возможностями. Настоящий мастер слова пользуется этими возможностями и прибегает к лежащим вне литературного языка средствам. Еще Пушкин писал, что «язык неистощим в соединении слов», и блестяще доказал это на практике. Необычные сочетания слов позволяют придавать им новые образные смыслы. «На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн» (“Медный всадник”) - все слова образованному читателю известны, а сочетания их разговорной прозаической речи не свойственны. «/На берегу моря, озера, реки»- обычно но на берегу волн для нас- это новое пушкинское словосочетание, придающее контексту очарование. Возможно (но не обязательно), что у Пушкина, отлично владевшего французским языком, здесь синтаксическая калька, перевод французского, однако это ничего не меняет: мы ведь по-русски воспринимаем русский пушкинский текст и как читателям нам нет дела до происхождения этого оборота. Важно одно: здесь поэтический образ чрезвычайно емкого содержания и огромного эмоционального воздействия, выраженный индивидуально, по-пушкински, и в то же время общепонятен по-русски. Дум великих, а не великих дум - поэтическая инверсия. Дум полон - так в обыденной или «усредненной» речи не говорят.
Возьмем Блока. «Это - звоны ледохода / На торжественной реке, / перекличка парохода / с пароходом в далеке» (“Пушкинскому дому”)- тут и музыка стиха, и необычные для повседневной речи словосочетания. Р. Рождественский писал волнующие, глубоко значимые строки: «… И грохочет над полночью То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны» (За того парня). Тут нет ни единого инородного для литературного языка слова, и в то же время это поэзия высокого класса. В ней заключено огромное общественное содержание, которое значимо для читателей. Так не говорят, это совсем не «усредненный» язык, но читатель, воспринимая мастерски созданную картину, как бы не замечает необычности речи.
И до сих пор пушкинский язык прозрачен, как магический кристалл, хотя бесконечно сложен в своей семантике. Конечно, литературный язык после Пушкина постепенно изменялся, поэтому кое- что в пушкинских текстах в языковом отношении устарело. Сравнить хотя бы «и воспомнил ваши взоры, Ваши синие глаза». Воспоминание осталось, а вместо воспомнить нормой стало вспомнить. Но в целом необъятное богатство поэтической пушкинской речи было и остается в пределах норм русского литературного языка. «Инородных» для русского языка элементов немного. Немного их и у других классиков нашей литературы, в том числе и у Некрасова.
Использование «неистощимых соединений лов» и художественных переосмыслений остается главной линией развития русского художественного языка вплоть до нашего времени. Приведем, к примеру, цветовые обозначения, имеющие образную нагрузку: «Несказанное синее, нежное...», « ты - мое Васильковое слово» (Есенин); «Мне весело и хорошо оттого, что день, подсиненный безоблачным небом, тоже весел и хорош; оттого, что на всей душе вот такой же синий покой и чистота» (Шолохов); «Синие птицы как будто бы из далекой страны прилетели, ночевали тут и оставили после себя это синее поле» (Пришвин) В русской большой художественной литературе бесконечное количество таких сочетаний. Она вся соткана их них. Слова с обычными непереносимыми значениями в общем контексте приобретают особе звучание. Мы как бы всего этого не замечаем: так органически они вплетаются в образный контекст и соответствуют строю и духу русского литературного языка. Конечно, пока не вырождаются у некоторых писателей в несуразность, вроде деревянная железка.
Как известно словарь русского языка, в том числе и художественной литературы, непрерывно пополняется. В наш век научно-технического прогресса главным источником его пополнения является научная и техническая терминология. Существуют и другие источники. Кроме литературного, имеются и такие разновидности русского языка: внелитературное просторечие, местные говоры, жаргоны, отмершие пласты языка минувших эпох. В художественных произведениях по-разному используются эти «чужеродные» языковые элементы, но, как показывает история русского литературного языка, не они составляют основу речевой схемы писателя. Так было во времена Пушкина, так остается и теперь. Писатель, если он хочет быть признанным, никогда не должен забывать о массовом читателе.
Считаться с нормами литературного языка вовсе не означает, что тем самым ограничивается свобода языкотворчества писателя. Нужно только в этой свободе чувство меры, оправданности употребления диалектизмов. Беда, когда диалектизмы появляются не потому, что они художественно необходимы, а для щегольства. Чувство речевой меры определяется писателем и только им, но нельзя не дано безнаказанно нарушать законы литературного языка. Свое определенное место занимают и неологизмы. В свое время В. Хлебников писал:
Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры
Пиээо пелись брови,
Лиэээй - пелся облик,
Гзи - гзи - гзео пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.
Как считал сам Хлебников, все в его «заумных» словах и контекстах имело определенное значение. Только какое? Кто это значение, кроме самого поэта, мог расшифровать? В. Хлебников - интересное явление в истории русской литературы. Не все у него «заумь», но навряд ли его бобэоби, вээоми понимали миллионы читателей. Никаких оправданий для подобного рода «неологизмов» найти нельзя.
Крайне спорные неологизмы и в творчестве Вознесенского, например:
И фырчит «Ф», похожее на филина.
Забьет крылами «У» горизонтальное-
И утки несутся за Онтарио.
«Б» в даль из-под ладони загляделася - как богоматерь, ждущая младенца.
Мелодия Кирилла и Мефодия
Конечно, можно пофантазировать на эту тему, на что похожа та или иная буква, но эта поэзия ради самой поэзии. Можно ли мир субъективных ассоциаций сделать достоянием миллионных читательских масс? Безусловно можно, если за такими ассоциациями стоит большое общественно значимое содержание. А если нет, то субъективное так и остается субъективным.
Вряд ли надо считать находками и такие неологизмы, которые решительно ничего не прибавляют к существующим уже словам: смельство вместо смелость, властительство, регулярство, сострадательство, угрюмовство и проч.
Установка на индивидуальное словотворчество как на главный арсенал художественной литературы мало что дает взыскательному читателю, а к литературному языку ничего не прибавит, так как продукты такой установки не выйдут за пределы индивидуального текста. Незачем ломать русский литературный язык: он настолько необъятно богат, что в нем может воплотиться любое художественное творчество, любая индивидуальность.
Некоторые лингвисты призывают «всосать и ассимилировать» такие американизмы, как паркинг, хээпи-энд, уик-энд и т.д. под тем предлогом, что русский язык достаточно силен и все переварит. Немалое действительно «всасывается». Сейчас трудно представить наше телевидение без кастингов (отбор) и драйвов (движение), гламуров (глянцевый) и дефиле (шествовать) киллер (убийца), звуковой портал (ворота) секьюрити (безопасный) . На некоторых автострадах русскими буквами написано паркинг, а неподалеку от этих мест при обозначении одного и того же - стоянка (для машин). Зачем засорять богатый русский язык американизмами? Русский язык всосал и ассимилировал» много чужеродного, но нужно ли это?
Процессы заимствования будут продолжаться. Однако всему должен быть предел. Раньше полагали, что водоемы безграничны и сами очистятся, а теперь человечество думает о том, как бы защитить естественную среду от резко увеличившихся производственных отбросов. Возможности русского языка огромны, но тоже небезграничны. В век научно-технического прогресса происходит как известно, лавинообразное увеличение информации, а вместе с ней и колоссальный рост терминов. В таких условиях охрана чистоты русского языка, очищение его от словесного мусора, защита от засорения становится острой, актуальной проблемой в области культуры, не менее важной, чем забота об охране окружающей среды для нашей жизни и жизни будущих поколений.
Список литературы Нормативность в языке художественной литературы
- Русская литература XX века. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М: Дрофа, 2004.
- III века русской поэзии: - М, Просвещение, 1979.
- Скворцова Л.И. Сокровищница языковой культуры. / "Русская речь", 1976, №12.
- Можаев Б. Момент непонятности и чувство слова. / Литературная газета, 1976, № 1.