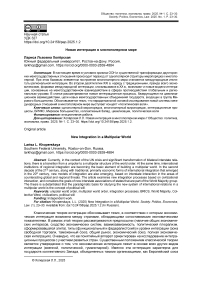Новая интеграция в многополярном мире
Автор: Хопрская Л.Л.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
В настоящее время в условиях кризиса ООН и существенной трансформации двусторонних межгосударственных отношений происходит переход от однополярной структуры миропорядка к многополярной. При этом базовым элементом построения многополярного мира становятся международные институты региональной интеграции. Во втором десятилетии XXI в. наряду с традиционными, прежде всего экономическими, формами международной интеграции, сложившимися в ХХ в., возникают и новые модели интеграции, основанные на межгосударственном взаимодействии в сферах противодействия глобальным и региональным угрозам. В статье рассматриваются новые интеграционные процессы, базирующиеся на цивилизационном взаимодействии, цели новых межгосударственных объединений государств, входящих в группу Мирового большинства. Обосновывается тезис, что парадигмальной основой исследования новой системы международных отношений в многополярном мире выступает концепт «политическая воля».
Однополярный миропорядок, многополярный миропорядок, интеграционные процессы, брикс, мировое большинство, коллективный запад, цивилизации, политическая воля
Короткий адрес: https://sciup.org/149147412
IDR: 149147412 | УДК: 327 | DOI: 10.24158/pep.2025.1.2
Текст научной статьи Новая интеграция в многополярном мире
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия, ,
и НАТО (включая их сателлитов в Азиатско-Тихоокеанском регионе), реализующими и отстаивающими однополярный миропорядок.
Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая на Мюнхенской конференции 10 февраля 2007 г., задал вопрос: «Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. <…> Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при лидерстве в современном – именно в современном – мире не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но что еще важнее: сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации»1.
Условием создания, воспроизведения и сохранения однополярного миропорядка после распада СССР в 1991 г. выступало глобальное лидерство США. Суть концепции глобального лидерства замечательно сформулировал российский политолог Ю.П. Давыдов: «…ни одна значительная проблема в мире не может быть сегодня решена без участия США или при их активном сопротивлении» (2000: 17).
Впервые на международном уровне об исчезновении биполярной системы и формировании многополярного мира было заявлено в Российско-китайской совместной декларации о многополярном мире и формировании нового международного порядка в 1997 г.2 Принципами создания нового международного порядка являются взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, взаимное невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование и другие общепризнанные принципы международного права.
На рубеже ХХ–ХХI вв. Россия и Китай заявили об ориентации на построение модели многополярного миропорядка, а в начале ХХI в. выступили с идеей создания нового межгосударственного объединения, которую в 2006 г. поддержали Индия, Бразилия, а в 2011 г. – ЮжноАфриканская Республика. После ее присоединения в качестве названия объединения утвердилась аббревиатура БРИКС.
Параллельно этому стали интенсивно развиваться интеграционные процессы между государствами, вошедшими в группу, получившую общее название Мирового большинства (глобального Юга и Востока), разделяющими принципы и ценности многополярного мироустройства. Термин «Мировое большинство» начал активно использоваться с 2022 г., выступая антонимом понятию «коллективный Запад», который рассматривается как меньшинство, сохраняющее доминирование в мировой политике и экономике (Балашова, 2022). В Новом дипломатическом словаре Мировому большинству посвящена отдельная статья, в которой предложено следующее определение: «Совокупность стран мира, не включенных в обязывающие отношения с США и патронируемыми ими организациями; совокупность стран и народов глобального Юга и Востока, население которых составляет порядка 80–85 % населения мира, а политический курс не предполагает безоговорочной поддержки внешнеполитических подходов Запада»3.
Выступая в Министерстве иностранных дел России 14 июня 2024 г., Президент РФ В.В. Путин четко обозначил заинтересованность государств Мирового большинства в создании системы межгосударственных договоренностей и институтов, обеспечивающих преимущественную ответственность стран-участниц за урегулирование региональных конфликтов и поддержание стабильности при недопущении деструктивного внешнего вмешательства4. В поисках «выхода из однополярного мира» (А.Г. Лукашенко) начался активный процесс подключения к новому незападному типу межгосударственных отношений на принципах взаимного уважения и суверенного равенства, обеспечивающих инклюзивную многосторонность через формат БРИКС, стран Евразии, Африки и Латинской Америки. «Самоорганизация Глобального большинства – это сегодня страшный сон западных неолибералов и псевдодемократов. Более того, экономическое давление, политический шантаж привели к обратной реакции – Большинство осознало свое истинное положение, реальный вес и влияние на мировой арене. Глобальный Юг и Восток настоятельно требуют принципиально иных механизмов представленности и своего участия в современных процессах. И совершенно справедливо начинают отстаивать свои законные интересы в международных организациях»1.
С января 2024 г. членами БРИКС+ стали Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Еще 13 государств (Алжир, Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда, Узбекистан) получили статус стран – партнеров БРИКС на саммите в Казани в октябре 2024 г.2
Критики БРИКС+ и перспектив развития этого нового геополитического объединения подчеркивают, что основные макроэкономические показатели незападных государств (ВВП, дефицит бюджета, внешний долг, доходы на душу населения) демонстрируют существенные различия в уровне их экономик. Это же подтверждают и показатели социально-экономического развития, фиксируемые с помощью индекса человеческого развития (ИЧР). По рейтингу ИЧР3 по итогам 2023 г. Россия находилась на 56 строчке в мире, Китай – 75, Индия – 134, Бразилия – 89, Южная Африка – 110, Египет – 105, Иран – 78, ОАЭ – 17, Эфиопия – 176. Рейтинг ИЧР государств, получивших в 2024 г. статус партнеров БРИКС+, также существенно разнится: Алжир – 93, Белоруссия – 69, Боливия – 120, Вьетнам – 107, Индонезия – 112, Казахстан – 67, Куба – 85, Малайзия – 83, Нигерия – 161, Таиланд – 66, Турция – 45, Уганда – 159, Узбекистан – 106.
Нельзя не сказать и о том, что по ряду параметров нынешние военные и политические установки участников и партнеров БРИКС+ (например, Ирана и Турции) не стыкуются друг с другом, но они совпадают в главном – в цели обеспечения региональной безопасности и стабильности. Эти государства нуждаются в совместных действиях, обеспечивающих их безопасность на глобальном и региональном уровнях.
Расширение БРИКС в июле 2023 г. и октябре 2024 г. констатировало переход к новой геополитической и геоэкономической реальности, характеризуемой выстраиванием многосторонних и многоплановых проектов сотрудничества. С этой целью государства вошли в состав БРИКС+, не предъявляющего предварительных требований к уровню их социально-экономического развития и западным стандартам «демократичности». Немаловажно, что БРИКС в расширенном формате – это обладание значимыми запасами углеводородов, драгоценных, полудрагоценных и редкоземельных металлов и других минеральных ресурсов, более 45 % населения Земли и более трети территории планеты, это новые значимые финансовые центры и до половины производства ряда зерновых.
БРИКС высказал намерение создать альтернативные платежные инструменты, обозначил позицию по вопросам «односторонних незаконных мер, таких как санкции»4, признал необходимым сделать ООН, включая Совет Безопасности, «более демократической, представительной, эффективной и действенной»5 и выделил важность увеличения представленности именно развивающихся стран во всех категориях членства с особым акцентом на Бразилию, Индию и ЮАР. «У каждого из этих государств свой путь развития, свои модели экономического роста, богатая история, культура. Именно в таком цивилизационном многообразии, уникальном сочетании национальных традиций, безусловно, и кроется сила и огромный потенциал для сотрудничества не только в рамках БРИКС, но и в том большом кругу стран-единомышленниц, которые разделяют цели и принципы деятельности объединения»6.
В современном мире региональная интеграция развивается на основе не только экономического сотрудничества, но и языкового, религиозного, культурного, по большому счету – цивилизационного единства, а для ее анализа все чаще используется цивилизационный подход, определяющий, что к основным характеристикам интеграционных сообществ относятся особенности ментальности, идеологии, религии и т. д.
В настоящее время в качестве основы новой теории международных отношений стала применяться концепция многополярности, в которой именно цивилизации являются полюсами, радикально новыми акторами миропорядка. «Каков геополитический облик новой системы? Как будет организовано межгосударственное взаимодействие в условиях многополярности? Эти вопросы требуют ответов. И искать их, на наш взгляд, нужно прежде всего в плоскости исследования крупных общностей – макрорегионов или цивилизаций, имеющих отличительные социокультурные, геоэкономические и международно-политические характеристики» (Дробинин, 2023: 55).
Как считает российский философ и политолог А.Г. Дугин, таких цивилизаций сегодня как минимум семь. Некоторые цивилизации уже объединены в огромные континентальные государства, другим это еще предстоит. Коллективный Запад, страны НАТО и вассалы США – это лишь один из полюсов. Но уже сформировались еще три полюса: Россия-Евразия, Великий Китай, Большая Индия. Все они государства-цивилизации, т. е. нечто большее, чем обычные страны. Еще три больших пространства, интегрированные в разной степени: исламский мир, крепко спаянный религией, но политически пока разобщенный; черная транссахарская Африка; Латиноамериканская ойкумена (освоенная человечеством часть мира) (Дугин, 2024). Все семь цивилизаций имеют совершенно различный религиозный профиль, разные системы традиционных ценностей, разные векторы развития, разные культурные идентичности. Но три государства-цивилизации и практически все потенциальные государства-цивилизации объединились в БРИКС, который стал формой объединения человечества на равных основаниях. БРИКС объединяет всех, кроме Запада1.
Новейшая интеграция подразумевает создание общего пространства равноправного сотрудничества разнообразных региональных межгосударственных объединений, разделяющих концепцию многополярности. На пространстве Большой Евразии – региона-лидера новейшей интеграции – к ним относятся следующие:
-
– Евразийский экономический союз (ЕАЭС), формирующий единый рынок товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов;
-
– Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), основной задачей которой является упрочение разностороннего взаимодействия в деле поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе;
-
– Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (англ. Association of South East Asian Nations – АСЕАН), важнейшей целью которой выступает обеспечение собственной безопасности государств-участников от вмешательства извне;
-
– китайский проект «Один пояс – один путь», направленный на ускоренное развитие и налаживание отношений со странами региона в экономической, политической и гуманитарной сферах;
-
– Организация тюркских государств (ОТГ), которая намерена развивать политическую солидарность, экономическое сотрудничество, торговлю, культурные контакты, гуманитарные и общественные связи;
-
– Организация исламского сотрудничества (ОИС), ориентированная на поддержание международной безопасности, поддержку борьбы мусульманских народов в защиту своего достоинства и независимости;
-
– Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), преследующий цели обеспечения координации, интеграции и взаимодействия между странами-членами во всех областях на пути к их объединению;
-
– Каспийская пятерка, занимающаяся проблемами правового статуса Каспия и обеспечения безопасности и стабильности в Каспийском регионе.
В Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе также формируются межгосударственные объединения (Африканский союз, Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), Лига арабских государств (ЛАГ), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и др.), входящие в категорию Мирового большинства. Они отстаивают справедливые и универсальные принципы международных отношений, не приемлют неоколониализм и западную концепцию «порядка, основанного на правилах».
Сложившая ситуация требует теоретического осмысления. В книге «За субъективный подход к международным отношениям», изданной в 2023 г. в Париже, Б. Бади – автор, однозначно стоящий на идеологических позициях Коллективного запада и квалифицирующий СВО как «вторжение России на Украину», признает два важных факта: Запад потерял свою гегемонию, старая геополитика с претензией на объективность и ее структурными детерминантами (географическими, историческими) недостаточна для понимания сложности все более фрагментированного и хаотичного мира (Badie, 2023).
С нашей точки зрения, необходимо обоснование нового подхода к интеграционным процессам. Важнейший аспект новой интеграции выделил премьер-министр Малайзии А. Ибрагим: «Прокладывая путь вместе вперед, давайте не будем забывать о том, что истинная сила нашего партнерства заключается не только в тех соглашениях, которые мы подпишем, или проектах, которые мы вместе реализуем, но прежде всего в совместном видении и взаимном уважении, которые связывают наши народы. <…> …Что нам очень нужно в сегодняшнем мире – это абсолютно консистентный и четкий посыл: да, мы уважаем свободу, мы уважаем достоинство человека, мужчины и женщины, и мы должны противостоять всем формам колонизации»1.
Новый подход ставит в центр внимания не динамику экономической интеграции, а построение справедливого миропорядка, предотвращение угроз, связанных с региональной политической нестабильностью, финансовой неустойчивостью, изменением климата, цифровым неравенством, продовольственной безопасностью, преступностью, терроризмом, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, т. е. проблемы, в решении которых могут участвовать государства с различными уровнями экономического развития, разными политическими системами, принадлежащие самобытным цивилизациям как «длительно существующим, самодостаточным сообществам стран и народов, своеобразие которых обусловлено социокультурными причинами»2.
По утверждению премьер-министра Индии Н. Моди, БРИКС+ в ближайшее время «станет более эффективной платформой, позволяющей решать глобальные вызовы. <…> Мы искренне верим в нашу разнообразность и многополярность, – и это наша сила. Мы верим в человечество. Это поможет нам добиться более яркого будущего для наших грядущих поколений»3.
Многополярный мир сегодня не утопия и не только теоретический проект, происходит институционализация многополярности. Многие исследователи видят в этом начало нового – незападного – типа интеграции, где лидерами становятся народы региона, избавившиеся от роли пассивных объектов мировой политики и играющие по своим политическим, экономическим и культурным правилам.
Требуется политологический анализ реального участия государств Мирового большинства в современных интеграционных процессах. В частности, подлежат исследованию наряду с противоречивыми внутренними тенденциями и неоднозначным воздействием внешних факторов, которые осложняют их участие в межгосударственном сотрудничестве, новые парадигмальные основания, позволяющие представить постановку проблем и способов их решений в сфере международной интеграции.
На портале «Большая российская энциклопедия» высказано мнение о том, что «социальные феномены материального (разрыв в уровнях жизни “центральных” и “периферийных” регионов, миграционные потоки, особенности существующей в различных странах инфраструктуры) и нематериального характера (культура, восприятие и самовосприятие, информация и нормы, ожидания и символические роли) обладают самостоятельным существованием и влияют на мировую политику в неменьшей степени, чем политические и геоэкономические факторы (армии и вооружения, технологии и конфигурация границ, природные ресурсы и традиционная дипломатия)»4.
Считаем, что парадигмальной основой исследования новой системы межгосударственных объединений в ходе формирования многополярного миропорядка выступает концепт «политическая воля». На обосновании этого утверждения остановимся подробнее. Напомним, что в российской политологии под политической волей понимается «способность политического субъекта к последовательной реализации поставленных целей в сфере политической власти»5. Поскольку политические цели предполагают определенное отношение к существующей политической реальности, а в межгосударственных отношениях – к наличной геополитической реальности, то при анализе реальных международных процессов, в частности проблем трансформации миропорядка, необходимо выявление содержания политических целей государств.
В самом общем виде возможны три варианта содержания политических целей: сохранение статус-кво; адаптация к объективно происходящим процессам; изменение статус-кво и реформирование политической структуры, включая преодоление препятствий на пути к этому изменению.
Применительно к системе международных отношений, организации мирового порядка, с нашей точки зрения, правомерно говорить о следующих политических целях государств: сохранение однополярного миропорядка и глобального лидерства (США); поддержка глобального лидера и следование его установкам (коллективный Запад); кардинальное преобразование геополитической реальности на принципах многополярного мироустройства (Россия, Китай, Индия и другие государства – участники БРИКС).
Следует учитывать, что политической волей обладает в первую очередь государство, общество или доминирующая в нем социальная группа, а ее непосредственным носителем выступает политический лидер. Портреты лидеров современных государств наглядно иллюстрируют, с одной стороны, деградацию руководящих элит Запада, демонстрирующих недееспособность перед лицом копящихся проблем и обостряющихся противоречий (Караганов, 2022), с другой – усиливающийся авторитет государственных деятелей, отстаивающих полноценный экономический и политический суверенитет своих стран и равноправное сотрудничество с другими, инициаторов и участников новых интеграционных процессов.
Политических лидеров государств Мирового большинства объединяет наличие политической воли, выражающейся в поступках и деятельности, которая обеспечивает стратегическое партнерство и реализацию инициатив по построению многополярного мироустройства. Очевидно, что может возникнуть вопрос о том, что произойдет в случае смены государственного лидера, сохранится ли политическая воля как выражение стратегического курса государства? История знает различные примеры.
Полагаем, что политическое лидерство – это социальная позиция (Ж. Блондель), усиленная личностными качествами. В государстве, обладающем политической волей, желанием и готовностью к трансформации геополитической реальности, социальную позицию лидера, предполагающую воздействие на принятие решений или непосредственно на ход политических процессов, должен занять человек, обладающий политической волей. Ее отсутствие приведет к его неизбежной смене, таких примеров история знает также немало.
Государства Мирового большинства обладают политической волей, о которой они громко заявили в Декларации БРИКС+, принятой на саммите в Казани в октябре 2024 г.: «мы привержены дальнейшему углублению сотрудничества в рамках расширившегося БРИКС по трем магистральным направлениям – политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи, а также укреплению стратегического партнерства на благо граждан наших стран посредством продвижения мира, более представительного и справедливого международного порядка, обновленной и реформированной многосторонней системы, устойчивого развития и инклюзивного роста»1.
Совершенно иное понимание концепта политической воли у американских ученых. Признавая центральную роль политической воли в политических процессах, они пытаются выявлять конкретные недостатки политической воли, эффективно конструировать и использовать меры по ее улучшению (Post et al., 2010: 653). Отмечая «недостаток политической воли в современной Америке», американский исследователь Д. Робертс задается вопросом, «где и когда существует политическая воля, и если ее нет, то чего именно не хватает»2. Его ответ со ссылкой на работу Л.Э. Пост, Э.Н. Рейл и Э.Д. Рейла таков: политическая воля существует, когда имеются следующие факторы:
-
1) достаточный круг лиц, принимающих решения;
-
2) общее понимание конкретной проблемы, включенной в формальную повестку дня;
-
3) приверженность поддержке;
-
4) общее, потенциально эффективное политическое решение.
Авторы, трактующие концепт политической воли как способность преодолевать препятствия на пути к изменению некоего статус-кво, подчеркивают, что она «необходима для внедрения и проведения конкретных мер и зависит от воспринимаемой разницы преимущества между издержками сохранения статус-кво и затратами на проведение реформ» (Nelson, 1984).
Проблема в том, что эти и другие исследователи выясняют условия реализации политической воли, но не ее сущность. Более того, прилагательное «политическая» они употребляют как синоним «управленческая» и рассматривают ее в тактическом (операциональном) контексте, а не в стратегическом.
С нашей точки зрения, политическая воля присутствует там, где есть стратегия и осуществляется целенаправленная трансформация политической и геополитической реальности. Как отмечает российский философ Г.Л. Тульчинский, «политическая воля предстает как весь комплекс вы- работки, принятия и реализации принятого решения, включая проблемный контекст, расстановку социальных сил, их интересы, аккумуляцию необходимых материальных, организационных, информационно-символических ресурсов, стратегию и логистику действий, систему контроля, стимулирования и санкций» (2017: 45). При этом «смысловым ядром, стержнем политической воли являются политические ценности и установки общественного и индивидуального сознания, политической и правовой культуры субъекта политической деятельности» (Жовтун, 2012: 20).
Возвратимся к предмету нашего исследования – интеграционным процессам в многополярном мире. Председатель КНР Си Цзиньпин в выступлении на саммите БРИКС в Казани подчеркнул, что русский писатель Н.Г. Чернышевский в романе «Что делать?» представляет героя, который «проявил исключительную твердую волю и решительность в достижении своих целей.
Такая сила духа нам сегодня очень нужна. Чем сложнее наша эпоха, тем важнее вести упорную борьбу, проявляя непоколебимую волю, авангардную смелость и способность реагировать на изменения, тем самым открывать новые перспективы для высококачественного развития сотрудничества. <…> Важно продвигать справедливую повестку БРИКС во имя совершенствования системы глобального управления»1.
Все сказанное позволяет утверждать, что именно политическая воля государств Мирового большинства сегодня выступает условием и гарантом обеспечения новой незападной интеграции, которая строится прежде всего на ценностных основаниях и ориентирована на формирование справедливого многополярного мироустройства.
Список литературы Новая интеграция в многополярном мире
- Балашова Л.В. Идеологема "коллективный Запад" сквозь призму антропоморфной метафоры // Политическая лингвистика. 2022. № 5 (95). С. 24-39. DOI: 10.26170/1999-2629_2022_05_02 EDN: VQYOIF
- Давыдов Ю.П. Расширение зоны ответственности атлантического мира // США и Канада: экономика, политика, культура. 2000. № 3. С. 12-30.
- Дробинин А.Ю. Образ многополярного мира // Россия в глобальной политике. 2023. Т. 21, № 2. С. 54-62. DOI: 10.31278/1810-6439-2023-21-2-54-62 EDN: UHJJAE
- Дугин А.Г. Многополярный мир. От идеи к реальности. М., 2024. 383 с.
- Жовтун Д.Т. Политическая воля в государственном управлении // Социология власти. 2012. № 2. С. 20-30. EDN: PBQCTB
- Караганов С.А. От не-Запада к Мировому большинству // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20, № 5. С. 6-18. DOI: 10.31278/1810-6439-2022-20-5-6-18 EDN: QGBBXI
- Тульчинский Г.Л. Политическая воля: феномен и концепт // Наследие. 2017. № 1 (10). С. 31-49. EDN: ZKAHTN
- Badie B. Pour une approche subjective des relations internationales. Paris, 2023. 144 p.
- Nelson J.M. The political economy of stabilization: Commitment, capacity, and public response // World Development. 1984. Vol. 12, no. 10. P. 983-1006. DOI: 10.1016/0305-750X(84)90025-1
- Post L., Raile A., Raile E. Defining political will // Politics & Policy. 2010. Vol. 38, no. 4. P. 653-676. DOI: 10.1111/j.1747-1346.2010.00253.x