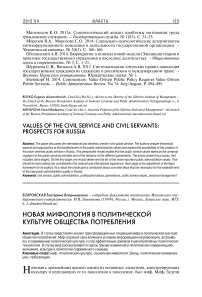Новая мифология в политической культуре общества потребления
Автор: Бобровская Екатерина Владимировна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 4, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ трансформационных тенденций мифа в политической культуре общества потребления. Миф сохранил свое влияние в условиях информационной революции, встраиваясь в современную политическую культуру и став эффективным приемом в манипулятивных политических технологиях. В статье миф рассматривается сквозь призму изменений в политических коммуникациях, экономике, культуре и психологии современного социума.
Миф, политическая культура, социальная мифология, бренд, политические коммуникации, глобализация
Короткий адрес: https://sciup.org/170167875
IDR: 170167875
Текст научной статьи Новая мифология в политической культуре общества потребления
Начиная с древнейших времен одним из основных элементов, конструирующих культуру и передающих ее из поколения в поколение, был миф. Миф, будучи производной от коллективного сознания, выполнял функцию социализации личности и конструирования в ее сознании картины мира [Платон 2015]. С усложнением социальной и экономической структуры, которые последовали за возникновением первых государств, подверглись трансформациям и такие ментальные феномены, как культура и мифология [Мюллер 2006: 196]. Расширился ролевой потенциал мифа – он был уже не просто способом миропознания, но становился инструментом легитимации власти и институциональной архитектуры государства. Встраиваясь в политическую культуру, миф формирует базовые ценностные ориентиры, создает идеальную картину мира, где свое право на власть оспаривают герои и злодеи, а сам мир мифа внутренне целостен и логичен.
Кардинальным изменениям мифология и культура подверглись в конце XX в. Интенсивное развитие информационных технологий привело к структурным изменениям в общественном бытии – как в реальном, так и в символическом. Взаимоотношения между гражданами и государством стали приобретать преимущественно рыночный характер, стали утрачивать ценностный смысл идентификации с политическими партиями и нациями, а принятие космополитического образа жизни и глобальной политической идентичности стали распространенным трендом в современной политической культуре [Bennett 2004: 105]. Экономизация политической сферы привела к тому, что с одной стороны, современные граждане оказались дистанцированными от традиционных социальных и политических институтов, а с другой – они интенсивно включились в рыночную конкуренцию, пытаясь компенсировать утрату тех благ, которую им предоставляли институты. Основными ориентирами в мире – как реальном, так и виртуальном – для глобализированной личности являются уже не догматы, религия или наука. Их место занимают бренды, формирующие имидж и задающие координаты мировоззрения и самореализации.
В свою очередь, ценность нового блага в виде доступного не каждому образа жизни и даруемого приобретенными брендовыми товарами легитимировалась культурой консьюмеризма. Сам феномен консьюмеризма получил свое развитие сначала в экономической сфере, а далее переместился в сферу политическую. Западные специалисты, рассматривающие глобализацию как естественный процесс, неизбежно затрагивающий все развитые страны, отмечают серьезные изменения в сфере отношений граждан с властными институтами в условиях глобализации. В результате этих процессов произошел сдвиг в идентичности, отделяющий традиционную гражданственность от публичной идентичности критически настроенных, независимо мыслящих потребителей [Bennett 2004: 105].
Таким образом, феномен консьюмеризма оказывается вплетенным в процесс глобализации, способствующей раскрытию индивидуализма и экономического рационализма личности. С рационалистической точки зрения выбор гражданина как потребителя полностью отрефлексирован.
С другой стороны, рассматривая психологический эффект глобализации и ее культурного проявления – глобального консьюмеризма, Ф. Даллмайр отмечает, что личность эпохи постсовременности оказывается брошенной в измерении вне пространства и времени. Трансцендентность нового кибернетизированного мира лишена пространственных измерений, а время протекает в измененном, диффузном состоянии. В результате социум становится психологически монохромной субстанцией, в которой отсутствуют пространственно-временные ориентиры [Dallmayr 2013: 35]. В описании З. Баумана продолжающийся процесс сжатия времени и пространства, или стирание пространственно-временных границ, замыкает на себя трансформацию параметров человеческого состояния. В условиях глобализации значимость мобильности возрастает до степени наиболее желанных ценностей, а свобода передвижения превращается в основной стратифицирующий фактор эпохи постсовременности. Новая мобильность предполагает, по сути, «радикальную безусловность», «отделение права от обязательств», и, в конечном счете, «свободу от обязательств вносить вклад в повседневную жизнь» и «увековечивание социальной общности». Эта свобода в результате оборачивается тяжкой психологической ношей для личности, делая ее беззащитной и подверженной неограничен- ному риску, исходящему от внешней среды, будь то угрозы человеческого фактора или природного [Bauman 1998: 13-14].
Подобные теневые стороны новой культуры искусственно «высветляются» посредством мифологии, идеализирующей и сакрализующей идеологию консьюмеризма. Мифическая личность информационной эпохи сильна, стремится к успеху, а ее тяжкий психологический груз интерпретируется как слабость, которая устраняется посредством менеджериальных мотиваций и общедоступных коммерческих «философий», поданных под видом абсолютной истины. Источником же коммерческой «философии» нередко становится маркетинг бренда, в рамках которого также применяются технологии мифодизайна.
Мифология бренда специфически воплощается в вещах, обеспечивая совпадение личной истории с сакральными первообразами-архетипами [Тихонова 2009: 34]. Базируясь на американском опыте, Д.Б. Холт приходит к выводу, что брендинговая мифология эффективна и в политических коммуникациях и превосходит по манипулятивному потенциалу государственную идеологию [Holt 2004: 57]. Данное умозаключение справедливо и для обществ других стран, чья культура подверглась консьюмеризации. Как пишет В.Т. Беннетт, граждане глобализированного сообщества делают свой политический выбор с расчетом на то, как он скажется на их образе жизни [Bennett 2004: 102]. Соответственно, современные политические коммуникации вбирают в себя терминологию, отражающую выбор потребителя на рынке, собственный воображаемый образ покупателя и его личные проявления социальной ответственности.
В результате рекламируемым товаром становится не только услуга или товар, но и целые общественно-политические структуры: политическая система и политический режим. Технологии брендирования и мифоконструирования одновременно используются в информационном пространстве, что обусловливает появление таких гибридных структур, как брендинговая мифология и мифодизайн. Одновременно с технологизацией мифа происходит мифологизация бренда в умах реципиентов.
С развитием интернет-коммуникаций, в т.ч. social media 1 , открылись новые возможности для конструирования и вброса искусственно созданной мифологии в информационное пространство. Современная искусственно конструируемая мифология представляет собой совокупность технологических приемов, базирующихся на основных элементах культуры современного информационного общества – образах «свободы», «сервиса», «успеха» и др. Для поддержания манипулятивного потенциала данной мифологии применяется технология мифологической аргументации. Подобная аргументация – это искажение структуры и значимости частного явления по отношению к объективной реальности, объяснение посредством навязывания эмоционально-образных стереотипов [Ульяновский 2011: 6]. Сам феномен бренда в эпоху постмодерна трансформировался из маркетинговой технологии продвижения торговой марки на рынке в симулякр, претендующий на роль религиозного догмата.
С точки зрения Д. Холта, мифология бренда, несмотря на свою коммерческую направленность, формирует идеал личного успеха и полоролевой состоятельности и таким образом осуществляет культурно-психологическую функцию в проектировании нациестроитества [Holt 2004: 57].
Внедрение политических месседжей в концепты корпоративных брендов становится успешным приемом для внедрения различных радикальных установок как в индивидуальное сознание потребителя, так и в сознание массовое. Привлекательные черты экономико-политического уклада жизни страны раскручиваются посредством технологии брендирования на политическом рынке, впоследствии формируя феномен «мягкой силы» государства. Ярким примером мифологического брендирования государственной политики является концепт американской демократии.
Как следует из мемуаров М. Олбрайт, распространение демократии по-американ- ски в заявлениях официальных лиц стало декларируемой миссией США, а свержение недружественных недемократичных режимов именовалось делом, угодным Богу. Например, комментируя вторжение Соединенных Штатов в Ирак, президент США – на тот момент Дж. Буш-младший – обосновывал правомерность подобной внешней политики, ссылаясь на раздел Библии, пророка Исайю, где сказано, что Бог освобождает от моральной ответственности тех, кто хочет освободить людей от рабской зависимости. После пленения С. Хусейна Буш в официальной речи провозгласил, что, восстанавливая в Ираке свободу, Америка таким образом выполняет Божий завет [Олбрайт 2007: 35].
Но если миф проявляет себя на уровне экстериоризации носителей данной культуры, то бренд «демократии по-американски» выражается в силе своей привлекательности с точки зрения представителей других культур и менталитетов. Это мотивационный фактор, который не влияет на реальные экономические и социальные последствия слома старой системы, но рисует в сознании ведомых им картину процветания и успешности в условиях нового, «свободного» государства. И здесь немалую роль играет мифологическая составляющая, в частности мифологический образ золотого века.
Концепт американской демократии имеет глубинные исторические корни, тесно переплетенные с пуританской мифологией и догматикой: в современной идеологии США сакрализован исторический эпизод, когда в 1630 г. на берега Америки прибыл будущий губернатор колонии Массачусетского залива Джон Уинтроп вместе со своими единоверцами-пуританами. Их миссией было создание поселения, которое станет «городом, стоящим на холме», на который будут устремлены взоры всех людей. Пуритане верили, что их колония станет образцом праведной жизни, и одной из целей колонизации Америки было распространение христианства на континенте [Олбрайт 2007: 35].
Со временем миссия распространения Закона Божия трансформировалась в миссию распространения демократии, которая также интерпретировалась как Божий дар. Отметим, что во времена создания первой конституции США демократия и религия были тесно связаны. Например, священник Т. Хукер, основатель колонии в Коннектикуте и внесший вклад в создание первой письменно оформленной конституции «Основные законы Коннектикута», утверждал, что «Бог даровал людям право самим выбирать своих руководителей, ограничивая при этом предоставляемые гражданским властям полномочия. В обоснование своих взглядов он цитировал Ветхий Завет, провозглашая во время проповедей: “Бог даровал нам свободу. Воспользуйтесь ею”» [Олбрайт 2007: 37].
Подводя итоги, отметим, что в рамках исследуемых политических коммуникаций деятельность по конструированию мифов и по формированию брендов ориентирована на изменение или формирование новой политической культуры. Идеология консьюмеризма, лежащая в основе политической культуры общества потребления, оказывает существенное влияние на изменение ментальных пластов в общественном сознании, что выражается в смене политического поведения граждан и сказывается на политическом режиме. В перспективе консьюмеризация сознания может привести к проблеме внутренне разрозненной полиментальности в психологии социума.
Список литературы Новая мифология в политической культуре общества потребления
- Зверев А.Л., Башков А.В. 2013. Роль интернет-коммуникаций в выработке политических представлений российских граждан. -Вестник Томского государственного университета. Сер. Философия. Социология. Политология. № 3. С. 87-99
- Мюллер М. 2006. Египетская мифология. М.: Центрполиграф. 490 с
- Олбрайт М. 2007. Религия и мировая политика. М.: Альпина Бизнес Букс. 352 с
- Платон. 2015. Государство. М.: Академический проект. 398 с
- Тихонова С.В. 2009. Социальная мифология в коммуникационном пространстве современного общества: автореф. дис. … д.филос.н. Саратов. 41 с
- Ульяновский А.В. 2011. Мифодизайн в рекламе: учебное пособие. СПб.: Филологический ф-т СПбГУ. 168 с
- Bauman Z. 1998. Globalization: the Human Consequences. Cambridge, UK: Polity Press. 136 p
- Bennett W. L. 2004. Branded Political Communication: Lifestyle Politics, Logo Campaigns, and the Rise of Global Citizenship. -Politics, Products and Markets: Exploring Political Consumerism, Past and Present. P. 101-125
- Dallmayr F. 2013. Being in the World: Dialogue and Cosmopolis. University Press of Kentucky. 286 p
- Holt D.B. 2004. How Brands Become Icons: The Principles of Cultural Branding. Harvard Business Press. 265 p
- Социальные медиа -это медиа, объединяющие конкретные группы, по своим свойствам идентичные профильным аудиториям и замыкающие данные групповые объединения в рамках искусственно конструируемой виртуальной реальности .