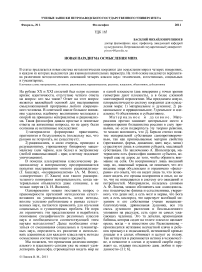Новая парадигма осмысления мира
Автор: Пивоев Василий Михайлович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (114), 2011 года.
Бесплатный доступ
Материальное, духовное, рациональное, иррациональное, реальное, идеальное, объективное, субъективное
Короткий адрес: https://sciup.org/14749846
IDR: 14749846
Текст статьи Новая парадигма осмысления мира
На рубеже ХХ и ХХI столетий был остро осознан кризис идентичности, отсутствие четкого ответа на вопрос: кто мы такие? Ответ на этот вопрос является важнейшей основой для выстраивания смысложизненной программы любого современного человека. В советской школе большое внимание уделялось идейному воспитанию молодежи с опорой на принципы материализма и рационализма. Такая философия давала простые и понятные ответы на жизненные вопросы, но не сразу были осознаны ее негативные последствия:
-
1) материализм формировал практицизм, прагматизм и бездуховность (поскольку все, что руками не потрогать, не существует);
-
2) рационализм, в свою очередь, приводил к редукционизму, упрощенному бинарному максимализму (или черное, или белое) и экстремизму (любой инакомыслящий – враг, а потому подлежит уничтожению).
В поисках альтернативы классическому рационализму и материализму предпринимаются попытки выстраивания «нового рационализма» (Г. Башляр), «неорационализма» (А. М. Воин), «синергетики» (Г. Хакен) или такого расширительного понимания материальности, когда материальным объявляется даже сознание, а не только энергия (А. И. Яковлев).
Одновременно можно поставить вопрос о правомерности претензий методологии естествознания на универсальность, когда методы, вполне успешно работающие в рамках естественных наук, пытаются применять для изучения социальных и гуманитарных проблем. Не пора ли ограничить эти представления и выработать понимание специфичности различных классов наук и необходимости соответствующей этим наукам методологии? Далее необходимо отказаться от смешивания социальных и гуманитарных наук, определить их различие и использовать адекватные для каждого класса наук методы осмысления соответствующего предмета.
Мы полагаем, что привычная дилемма материального и идеального сегодня уже не может удовлетворить философа, стремящегося видеть мир не в одной плоскости (два измерения с точки зрения геометрии дают плоскость), а в более сложной многомерной перспективе. Мы предлагаем новую, плюралистическую систему координат для осмысления мира: 1) материальное и духовное; 2) рациональное и иррациональное; 3) реальное и идеальное; 4) объективное и субъективное.
Материальное и духовное. Материализм прочно занимает центральное место в мировоззрении большинства россиян в силу привычки, но если подвергнуть эту теорию ревизии, то можно вспомнить, что Д. Беркли считал понятие материальной субстанции самопротиворечи-вым, так как приписываемые материи свойства (протяжение, форма, движение, цвет, вкус, запах) существуют лишь в сознании субъекта, мыслящей субстанции. По заключению А. Шопенгауэра, материализм есть философия наивного субъекта, который еще не дорос до того, чтобы обратить внимание на себя. Он воспринимает лишь внешний мир, но, лишенный зеркала, не понимает, что его видение мира обусловлено и ограничено «фильтрами» его опыта, что он видит лишь то, что позволяют видеть его органы восприятия и опыт, но не то, что не вписывается в систему его ожиданий и потребностей. Материализм, пользуясь словами А. Ф. Лосева, можно обозначить как «самодовольное пошлячество физика и естественника, уверенного, что души нет, а есть мозг и нервы, что Бога нет, а есть кислород, что царствует всеобщий механизм и его собственная ученая мещански-благополучная, дрянненькая душонка, вся эта смесь духовного растления и бессмысленного упования на рассудок, есть одно из самых ужасающих чудовищ. Это та дебелая, краснощекая бабенка, которая сидит на телеге и весело щелкает орехи, когда – в известном сне Раскольникова – производится истязание несчастной клячи и ребенок прильнул к издыхающей, истекающей кровью лошади и в слезах обнимает и целует ее голову. Так истязуется и распинается истина в человечестве, и немногие в слезах и духовной скорби окружают ее, отдавая последнюю дань любви и преданности» [11; 6].
Материальное
Вещественное
Инертное, пассивное (масса)
Количество
Пространство
Причинность
Измеримость
Чувственно (внешне) воспринимаемое Объективное
Духовное
Волновое, полевое Динамичное, активное (энергия)
Качество
Время
Синхронность
Безмерность
Внечувственное (внутреннее) состояние Субъективное
А. Ф. Лосев осмыслил представление марксистов о материи и сделал в «Диалектике мифа» следующее заключение: «Материалисты должны признать, что:
-
1. в основе их учения лежит не логика и знание, но непосредственное и притом сверхчувственное откровение (ибо материя... не есть нечто чувственное);
-
2. что это откровение дает опыт, который претендует на абсолютную исключительность, т. е. что этот опыт зацветает религиозным мифом ;
-
3. и что этот миф получает абсолютную утвер-жденность в мысли , т. е. становится догматом» [10; 122–123].
Что же касается самой материи, то «она становится безглазым, черным, мертвым, тяжелым чудищем, которое, несмотря на свою смерть, все же управляет миром. Материю нельзя одушевлять. Но вероучение заставляет утверждать, что ничего нет вообще, кроме материи. Если так, то ясно, что материя есть смерть» [10; 124]. Или еще одно такое же определение: материя есть «мертвое и слепое вселенское чудище» [10; 125]
Оценка А. Ф. Лосева уместна в случае советской абсолютизации категории «материя» и придания ей ключевой роли в понимании мира. Если же придать ей более ограниченный смысл, связанный с представлениями о вещественности, телесности, инертности, количественной измеримости, в таком случае данная категория и соответствующая методологическая точка зрения вполне могут быть использованы в изучении и понимании природы и техники.
Разумеется, глупо отрицать существование материального мира, но неплохо бы уяснить, что это такое. Украинский ученый Б. Дмитриев выдвигает четыре возможные гипотезы о соотношении материи и пространства: 1) вещество – это материя, а пространство – это пустота (Демокрит); 2) пространство – это материя, а вещество – «дырки» в этой материи; 3) вещество и пространство – две формы материи; 4) пространство и вещество – производные от единой материи [6; 15–16].
Современная наука (физика) постепенно принимает такое понимание материального тела: «...тела как плотные конденсации взаимодействующих энергетических структур» [17; 63]. Иначе говоря, вещественность является одной из ведущих характеристик материального, ибо вещество – это сгусток энергии. Дополнительной, согласно концепции Н. Бора, к вещественной является волновая (или полевая) характеристика предметов нашего мира, которая связана с духовностью, духом, душой, сознанием, энергией.
Рационализм и иррационализм. При осмыслении итогов ХХ столетия нельзя не заметить чрезмерность и мифологичность той роли, которую играл в нашей картине мира рационализм. Апологеты рационализма настаивают на его абсолютной ценности, полагая ее очевидной и не требующей доказательств. Между тем эта претензия рационализма выступать в качестве единственной методологической парадигмы, помогающей получать ответы на любые вопросы, не выдерживает самой благожелательной критики. Можно сослаться на традиции русской иррационалистической философии или современный сборник, подготовленный отнюдь не противниками рационализма, под редакцией И. Т. Карсавина [7].
Ф. Бэкон, выстраивая классификацию наук, в числе первых предложил различать науки о природе и науки о духе. Вслед за ним романтики стали более пристальное внимание обращать на поиски оснований наук о духе. Ф. Шлейермахер предложил создать герменевтику как основу науки об интерпретирующем понимании духовных ценностей. В. Дильтей проводил принципиальное разграничение между «понимающим методом» гуманитарных наук и «объясняющим методом» естественных наук. Естествознание, ставя вопросы о человеке, имеет в виду лишь телесное, материальное в нем, не пытаясь изучать духовный состав человека. Второе ему не по силам, ибо естественно-научная методология подходит только для изучения тела.
Естественные науки имеют дело с реально существующими предметами, в процессе познания которых ученый должен уяснить себе и объяснить, что это такое. В гуманитарных науках объектом исследования всегда являются «тексты» (в широком понимании слова), в знаковой форме выражающие значения и смыслы. Следом за ними представители «философии жизни» и неокантианцы (Э. Кассирер и В. Риккерт) стали более основательно исследовать герменевтические и аксиологические аспекты гуманитарного знания. Важный вклад в разработку методологии гуманитарного знания внес Анри Бергсон, оказавший мощное влияние на европейскую философию и искусство начала ХХ века [14].
Интеллект может допустить комбинаторную новизну, качественная новизна недоступна его пониманию. Об этом писал А. Бергсон: «Наш интеллект столь же мало допускает полную новизну, как и будущее, совершенно не похожее на настоящее» [3; 182]. «Именно потому, что интеллект всегда старается реконструировать действительность, и притом пользуясь данными эле- ментами, он не схватывает того, что есть нового в каждый момент какой-либо истории. Он не допускает непредвиденного. Он отвергает творчество. Наш ум удовлетворяется тем, что определенные предшествующие приводят к определенным последующим, которые можно вычислить, как функцию» [3; 181]. Анри Бергсон исследовал две формы знания, два способа осмысления мира – интеллектуальный и интуитивный. «Интуиция и интеллект представляют два противоположных направления работы сознания. Интуиция идет в направлении самой жизни, интеллект же в прямо противоположном, и потому вполне естественно, что он оказывается подчиненным движению материи» [3; 295]. Это не две формы, высшая и низшая, а две параллельные, взаимодополняющие стороны освоения мира, опирающиеся на деятельность левого и правого полушарий головного мозга. Анализ – функция интеллекта (левого полушария), синтез – функция интуиции (правого полушария).
В России начала прошлого столетия эти проблемы были в сфере интересов многих мыслителей, но затем рационалистическая методология стала вытеснять их на периферию научных дискуссий. Исключение составляли М. М. Бахтин и А. Ф. Лосев, чей вклад в разработку методологии гуманитарных наук неоспорим. Настало время, которое называют постнеклассическим периодом философии, когда она накопила опыт сочетания рационального и иррационального подходов к феноменам духовной культуры и поэтому возможно построение новой методологии гуманитарного знания.
Рационализм стремится представить ситуацию как однозначную и одномерную. В лучшем случае она изображается как противоречивое напряжение двух тенденций, одна из которых считается прогрессивной, а вторая – регрессивной (консервативной, реакционной). Принцип монизма (однозначности и одномерности) является ведущим для ученого-естествоиспытателя, обоснованию одномерности ситуации он и посвящает все свои силы и строит систему своей аргументации. Как заметил историк С. М. Соловьев, «по слабости своей природы человек с большим трудом привыкает к многосторонности взгляда; для него гораздо легче, покойнее и приятнее видеть одну сторону предмета, явления, на одну сторону клонить свои отзывы, бранить так бранить, хвалить так хвалить» [16; 61].
С. С. Аверинцев заметил, что античный рационализм построен на убеждении досократиков в наличии универсалий, или «сущностей», стоящих за «видимостями», то есть на обнаружении общего в различном. Такой дедуктивный рационализм скрывает в себе парадокс. С одной стороны, дедукция дает необходимую «полноту формальной доказательности», с другой – сама дедуктивность «требует внерациональных, вне-научных оснований, и притом так, что их принятие предстает не как компромисс, временно до- пускаемый развивающейся наукой, но как стабильный структурный принцип рационализма» [1; 122–128]. Такая аксиоматическая, иррациональная основа является обязательным условием рационализма. Поэтому рационалистам следует осознать, что абсолютизация принципов и подходов рационализма схожа с позицией страуса, который прячет голову в песок и полагает себя в безопасности, или соотносима с наивным убеждением героя Мольера, что он говорит не прозой, а стихами.
Освоение и дальнейшее развитие иррационалистической методологии должно быть направлено на создание предпосылок многостороннего и многомерного развития гуманитарного знания, которое имеет смысл в первую и главную очередь в рамках фундаментальной функции человека в мире – культуротворческой, для чего и создан человек Богом (или природой).
Разум и рассудок, родившиеся в ироническом философствовании Сократа, обретшие второе дыхание в декартовом cogito, в течение столетий были идеалом мыслящих людей. Само представление о философии в европейском сознании связано только с рационалистической методологической парадигмой, а любая иррациональная философия с порога, без всяких доказательных аргументов объявляется ненаучной «чепухой». Критерии рационального разума и рассудка до сегодняшнего дня являются той высшей и авторитетной силой, к которой апеллировали в спорах. Но конец ХХ века вновь поставил под сомнение абсолютность рассудочного, рационального разума. Начинают вырисовываться из тумана двусмысленностей ограничительные барьеры, которые заставляют задаться вопросом о соотношении понятий «разум» и «рациональность», о границах применения рассудка и рациональности как воплощения разума. Но сначала попытаемся выяснить истоки рациональности. Среди них можно обнаружить, во-первых, физиологические, а именно: по нервным каналам человеческого организма одновременно может проходить лишь один сигнал, два противоположных по значению сигнала будут мешать друг другу. Во-вторых, нельзя недооценивать безусловные рефлексы и априорный опыт, полученный нами от наших предков, а также наш личный опыт практической деятельности, требующий выяснения «линейных» причин и следствий и приучающий к однозначности выбора в ситуациях опасности – или гибель, или спасение, что связано также со зрительной доминантой в европейской культуре и потребностями практики, которая требовала от науки и философии однозначных ответов на поставленные вопросы. В-третьих, в европейских языках под влиянием античной традиции (выраженной на латинском языке, которым пользовались в качестве языка науки: ratio = «разум», «рациональность») сложилось отождествление понятий «разум» и «рациональность». В-четвертых, есте- ственно-научное познание сформировало критерии научности, среди которых важнейший – рациональная однозначность как условие истинности и эффективности. В-пятых, существует стереотип отождествления понятий «рациональность» и «целесообразность» (объективность; истинность, разумность; проверяемая достоверность). Если согласиться с таким отождествлением, то оказывается, что искусство и религия не могут дать ничего целесообразного, в их деятельности отсутствует целенаправленность, вся сфера искусства, художественного творчества оказывается «неразумной» или «внеразумной», а такой интеллектуальный метод, как интуиция, оказывается также лишенным права достигать каких-то целей. (На самом деле иррациональное также может быть вполне целесообразным, истинным, разумным и объективным, хотя проверяемость на практике не всегда достижима.) В-шестых, в сознании европейской интеллигенции существует сложившийся стереотип негативного отношения к иррациональности, поскольку фашистские идеологи активно использовали эти методы, чем дискредитировали их.
Рационализм есть результат осмысления практической («дневной») деятельно сти человека, для которой особенно важное значение имеют однозначные связи причин и следствий, получающие выражение в формально-логических законах и однозначных понятиях, обеспечивающих точное понимание в процессе совместной деятельности при разделении труда.
Исходя из этого мы можем определить понятия разума, рациональности, рассудка. В понимании рассудка и рациональности, на наш взгляд, ведущую роль играет однозначная («линейная») причинная обусловленность, каузальная логика. Об этом писал Э. Фромм: «Разум есть способность людей мысленно постигать мир в противоположность интеллекту, под которым следует понимать способность манипулировать миром с помощью рассудка. Разум – это инструмент, с помощью которого человек познает истину. Интеллект – это инструмент, который ему помогает успешно действовать в мире. Первый является человеческим по своей сущности, второй принадлежит животной части человека» [19; 481].
Для рациональной картины мира характерны следующие черты:
-
• существует абсолютное и бесконечное трехмерное пространство, тождественное себе, и абсолютное бесконечное однонаправленное время;
-
• материя вещественна; два объекта не могут одновременно занимать одно и то же пространство;
-
• прошлые события безвозвратно утеряны;
-
• будущие события эмпирически недоступны;
-
• невозможно одновременно находиться в двух и более местах;
-
• можно существовать только в единственной временной системе;
-
• целое больше части; нечто не может быть истинным и неистинным одновременно.
Такое видение мира естественно и верно при изучении технических систем, в сфере практического удовлетворения материально-физических потребностей человека, но совершенно непригодно для изучения и осмысления феноменов духа, сознания и культуры. В противоположность этим «объективистским» принципам еще Д. Беркли предлагал иные, вполне разумные и целесообразные «субъективистские» подходы. С. Гроф выдвигает в качестве основных такие исходные положения иррационального представления о мире, которое он называет «холо-номным»: «вещественность и непрерывность материи являются иллюзией, порожденной частной оркестровкой событий в сознании; время и пространство в высшей степени произвольны; одно и то же пространство может одновременно быть занятым многими объектами; прошлое и будущее можно эмпирически перенести в настоящий момент; можно иметь опыт пребывания в нескольких местах одновременно; можно переживать несколько временных систем сразу; можно быть частью и одновременно целым; что-то может быть одновременно истинным и неистинным; форма и пустота взаимозаменимы» [5; 371]. Можно сослаться также на К. Г. Юнга, предлагавшего для иррационалистической картины мира такие принципы, как синхронность и некаузальность.
Традиционная рационалистическая философия стремится постичь истину общего, абстрактное и однозначное «единство многообразия». Но этим истина не исчерпывается . Истина есть живой процесс, в который нужно войти хотя бы один раз и жить в нем. Если же вынести из этого потока на берег нечто живое, то оно тут же умирает, засыпает, как рыба, и мы получим истину «не первой свежести». «В жизни присутствует и иррациональное, причем двояко: и как до-ра-циональное, и как сверхрациональное. В реальности есть место хаосу, в котором разуму, так сказать, “не на что опереться”... В то же время есть и сверхрациональное – то, доступ к чему был возможен, например, в неоплатонизме, только благодаря экстазу (мистика Единого)» [9; 7]
Рационализм – это школьная, «школярская» методология. Рационалистом приятно и легко быть в молодости, когда хочется ясности и четкости в отношениях с людьми и миром. И только с возрастом приходит понимание того, что за спиной вещей прячется тень, некая тайна, которая не хочет выходить на свет, все время прячется, как пятнадцатый камень сада Рёандзи, за другие камни того же сада. Человек начинает ощущать многомерность мира, сложную ткань плетения, которая завязалась узлами, и их не развязать, не разрезать, не расплести. Кроме этого, отдавая должное роли критического метода в исследовании, Л. П. Карсавин возражал против абсолютизации критики, ибо, по его словам, «не критикою доказывается истинность того, чего нет в подвергаемом критике. Критицизм – признак ученичества и не руководимых целью исканий. И даже отдельные критические замечания полезны лишь в качестве иллюстраций доказываемой мысли. Что касается положительного доказательства, оно всегда – раскрытие системы» [8; 17]. Критиковать легко, это может делать кто угодно. Зрелый ум проявляется в конструктивных новых идеях.
Второй стереотип касается противоречия. Однозначных ответов на поставленные вопросы требует от науки практика, которая не может удовлетвориться чем-то приблизительным, двусмысленным или многомерным, поэтому ученым приходится переносить изучение объектов в лабораторные условия, чтобы отвести влияние второстепенных факторов и обстоятельств и обеспечить чистоту эксперимента. Но, как сказал Блез Паскаль, «противоречие – плохой критерий наличия или отсутствия истины: противоречивы многие достоверные вещи, многие же из вещей ложных воспринимаются без всяких противоречий. Само по себе противоречие не является еще критерием ложности, а непротиворечивость – критерием истинности» [12; 358]. Вот почему при переносе результатов лабораторного эксперимента обратно в многомерную природу получаются незапланированные результаты.
Кардинальный вопрос иррационалистической эпистемологии: зачем, для чего, с какой целью осуществляется познание объектов? Обычно ученые не ставят такой вопрос, знание для них есть «вещь-в-себе» и цель сама по себе. Но если вдуматься, естественные и технические науки решают проблемы, поставленные непосредственной практикой. Этим обусловлены эпистемологические параметры естественнонаучного исследования: однозначность, объективность, достоверность, проверяемость. Сферу практической деятельности обслуживает практическое, или «дневное», сознание. Но есть также сфера сознания, условно определяемая нами как «ночное» сознание, где используются формы знания, никак не соответствующие названным критериям. Можно называть это «вненаучным» знанием, если согласиться с гордыней и претензией естественных наук на роль единственно возможной науки. Такие претензии понятны и объяснимы для теологии или мифологии, но они противоречат методологическим принципам этой же самой науки, которой не пристало объявлять себя наукой без доказательств. Правда, можно привести свидетельства крупных ученых, утверждавших, что в основе науки лежит вера в существование истины и в возможность ее достижения. Что касается теологии и мифологии, то нужно решать вопрос об их научности, пользуясь их критериями, а не навязанными или привнесенными извне. У естественных наук критерии научности должны быть свои, и их роль не следует преувеличивать, как это было сделано на рубеже ХVIII–ХIХ веков.
Не следует понимать иррациональность как полнейшую беспринципность и бессистемность. Постмодернистская философия имеет свои принципы и системные требования. Думается, пришла пора реабилитировать термин «иррациональность» и использовать его на тех же правах, что и «рациональность», – для обозначения методологических оснований научного знания. Причем речь идет не только о методологических основаниях гуманитарного знания, где иррациональная методология доминирует, взаимодействуя с рациональным и опираясь на него. Иррациональное лежит в основе любого рационального знания, что легко показать хотя бы на примере известных четырех «Правил для руководства ума» Рене Декарта, который в их основание положил иррациональные посылки «достаточности», «очевидности», «уверенности» [13; 151–152].
В основе различения рационального и иррационального лежит, во-первых, критерий «мерности» причинно-следственных связей: рациональный метод требует однозначных, одномерных отношений, иррациональный – многомерных, неоднозначных. Рациональность отвечает на потребности практического, «дневного» сознания, вполне объясняет работу технических систем. Иррациональность характеризует главным образом субъективную реальность духовного мира или объективную реальность, в которой опредмечено, выражено человеческое отношение к миру.
Во-вторых, критерием является характер и основание достоверности. Рациональное знание требует многократной проверки, стопроцентной достоверности, полной объективности, ибо ошибка может стоить жизни. Иррациональное знание опирается на субъективную достоверность личного переживания.
Теорема К. Гёделя о неполноте является еще одним критерием различения рационального и иррационального. Рациональное переводимо без остатка на любой рациональный (искусственный) язык, иррациональное непереводимо.
Гуманитарные науки имеют дело с материалом, который кажется похожим на «мертвый» естественно-природный, но на деле эта аналогия обманчива. Гуманитарий исследует текст, имея дело с полученным уникальным и неповторимым опытом освоения мира автором текста, который при необходимости передать другим людям воплотил его (этот опыт) в одной из знаковых систем. Потери при переходе с образного языка мыслительных процессов и впечатлений на язык коммуникации неизбежны, ибо не возникает понимания, если не воспользоваться семиотическим полем и средствами коммуникации. В этих текстах воплощена авторская субъективность, для осмысления которой методы анализа недостаточны, они не исчерпывают проблемы понимания. Как верно заметил И. В. Гёте, все, что мы считаем «фактами», есть наша тео- рия, и все, что мы «знаем» об окружающем нас мире, является лишь нашей его интерпретацией (или «матрицей»).
Под рациональностью следует понимать, во-первых, требование выявления однозначной причинно-следственной связи, детерминизм, когда из одной причины при одинаковых условиях всегда будет следовать одно и то же следствие. Нередко рационалисты ссылаются на «бритву» Вильгельма Оккама – не умножать сущностей без необходимости, то есть при наличии разных вариантов объяснения факта самое простое – самое верное. Во-вторых, рациональность требует максимальной достоверности, поскольку рационалистическая методология обслуживает практическую сферу, и объективности, точности. По словам М. М. Бахтина, «пределом точности в естественных науках является идентификация (а = а). В гуманитарных науках точность – преодоление чуждости чужого без превращения его в чисто свое (подмены всякого рода, модернизация, неуз-нание чужого и т. п.)» [2; 371].
Иррациональное можно рассматривать по отношению к рациональному в трех аспектах: дорациональное (нерефлектируемое эмоциональное), парарациональное (дополнительное к рациональному) и сверхрациональное (выходящее за пределы рационального познания). Иррациональность предполагает возможность неоднозначных, многозначных причинно-следственных отношений. Известный художник-гравер В. А. Фаворский писал: «Попробуйте запомнить цвет при помощи слов, – у вас получится схема цвета, упрощенное представление о цвете, а цвет с его всей сложностью и влиянием на него фактуры можно запомнить только без слов, никакие слова не передадут всю сложность и частность его характера... Тут, быть может, и мешает то, что слово делает явление отвлеченным, что и является преимуществом в отвлеченном мышлении» [18; 44]. Или другой пример. Индийский философ Бхагаван Шри Раджниш спрашивал у учеников: «Из какого целого можно отнять целое и останется целое?» Ответ: «Материнская любовь». Сколько мать ни отдает ее своему ребенку, ее не убывает. Или сама мать, когда она рождает дитя, появляется целое – Жизнь. Здесь правила математики или формальной логики уже не действуют, а работают законы совсем другой логики. В. В. Розанов писал: «Наука есть точный и нужный факт, – говорят они. Но есть другая часть ученых, не худшая, которая требует от науки и некоторой поэзии, не избегает вопросов из чистого любопытства и пользуется методами воображения, соображения, догадки. Эта часть ученых в общей массе их занимает роль фермента, бродила. Наука закисла бы, наука прокисла бы, если бы эти ученые “грибки” своим воображением не приводили в движение массу старых мнений и фактов, всегда имеющих тенденцию пасть на дно и там лежать неподвижно» [15; 197].
|
Рациональное |
Иррациональное |
|
Однозначная детерминация Объективная достоверность, проверяемость Адекватная транслируемость и перевод на другие языки Дискурсивность, осознавае-мость Дискретность, прерывность Связано с количественными характеристиками объектов Используется для осмысления материальнотехнической сферы Связано с функциями левого полушария головного мозга и «дневным» сознанием Выражает преимущественно пространственные характеристики объекта |
Неоднозначная обусловленность, синхронность Субъективная достоверность, непроверяемость Неполная транслируемость, перевод с остатком, сотворчество Неполная осознаваемость, интуитивность Континуальность, целостность Связано с качественными характеристиками объектов Используется для осмысления духовно-гуманитарной сферы Связано с функциями правого полушария головного мозга и «ночным» сознанием Выражает преимущественно временные характеристики объекта |
По мнению основоположника кибернетики Норберта Винера, главное из преимуществ человека по сравнению с вычислительными машинами и роботами – «способность мозга оперировать с нечетко очерченными понятиями. В таких случаях вычислительные машины, по крайней мере в настоящее время, почти не способны к самопрограммированию. Между тем наш мозг свободно воспринимает стихи, романы, картины, содержание которых любая вычислительная машина должна бы отбросить как нечто аморфное» [4; 82].
Нужно заметить, что, выдвигая требование использовать иррациональную методологию при изучении культуры, мы должны не отбросить рациональную методологию, а правильно определить ее возможности и сферу применения, не считая рационализм способным решать проблемы, которые ему, как говорится, не по зубам.
Итак, можно свести в таблице основные характеристики «рационального» и «иррационального», представив дифференциальные дефиниции того и другого.
Таким образом, каждому свое: рационалистические методы (анализ, редукция, объектный, сравнительный) направлены на осмысление количественных характеристик феноменов культуры, а иррационалистические методы (интуиция, синтез, системно-комплексный, ценностный, субъектный) – на качественные. Или, как заметил Шпенглер, «сущность рассудка – критика, сущность разума – творчество» [22; 16].
Вслед за этим мы предлагаем пересмотреть представление о том, что разум и рациональность тождественны, как это трактуется в европейских языках со времен Цицерона, когда ratio обозначало «рассудок, разум, рациональность». Ведь если согласиться с таким отождествлением, то придется считать все искусство выпадающим из сферы ра- зума в сферу бессмыслицы и чепухи, с чем никто не согласится. Другое дело, если мы будем понимать разум как единство рационального и иррационального при ведущей роли первого.
Для осмысления сознания особенно важно понять, что оно имеет не вещественный, а полевой характер, это поле. Поле нуждается в каком-то материале, но не материал образует его особенности и характер, а волна . Точно так же и энергия имеет полевой характер. Волны энергии пульсируют в поле космоса. Волну характеризуют: амплитуда, высота и глубина, широта, скорость, интенсивность и экстенсивность. Субстанция имеет две основные формы: вещественную (материальную) и полевую (духовную).
Реализм и идеализм. Под реализмом понимается методологическая установка на признание познающим субъектом объективной реальности, существующей вне его, являющейся предметом его научного интереса и исследования. Реалист стремится не искажать объект, не подтасовывать результатов исследования, а быть честным в стремлении получить в результате эксперимента объективные данные, пусть даже они не соответствуют предварительной гипотезе.
Однако реальность может быть не только материальной и физической. Следует выделить следующие виды формы реальности:
-
1. Эмпирическая или физическая реальность;
-
2. Сенсорная (чувственная) реальность;
-
3. Художественная реальность;
-
4. Виртуальная реальность;
-
5. Измененная (галлюциногенная) реальность;
-
6. Субъективная реальность;
-
7. Духовная реальность;
-
8. Сон, или реальность сновидения;
-
9. Феноменологическая реальность.
В ХХ веке ряд философов декларировали в своих работах позицию реализма в противоположность идеализму. Физик Я. Хакинг пишет : «Научный реализм утверждает, что объекты, состояния и процессы, описываемые правильными теориями, существуют на самом деле». И далее: « Антиреализм утверждает обратное: электронов как вещей не существует. <…> Теории, которые их описывают, служат лишь инструментами мысли. Теории могут быть адекватными, полезными, подтвержденными или применимыми, но независимо от того, насколько мы восторгаемся умозрительными и технологическими триумфами естественных наук, мы не должны считать даже наиболее убедительные их теории истинными» [21; 29–30].
В марксизме идеализму дана широкая, но односторонняя трактовка, связанная с «идеями» Платона. В такой традиции идеализм считается синонимом воображаемого и пустого манипулирования бессодержательными, метафизическими и ничего не стоящими абстракциями. Но возможно другое понимание термина «идеализм», связанное с понятием «идеал». Идеализация – это мыслительная операция отвлечения от случайного, конкретного, частного в интересах акцентиро- вания внимания на существенном и закономерном, связанном с важнейшими перспективами развития процесса. В этом случае идеализм имеет совсем другой смысл. В противоположность приземленному и узколобому практицизму такой идеализм выводит человека к высшим духовным ценностям, имеющим фундаментальное значение для всей его жизни, направляющим его к вечности и нетленности существования.
Если реализм стремится иметь дело с адекватным воспроизведением реальности, то идеализм говорит о должном, о том, какой должна быть жизнь в соответствии с высшими моральными принципами, ценностями и идеалами, к чему обязан стремиться человек, ведомый наставлениями Духовного Абсолюта, Господа Бога.
Объективизм и субъективизм. Принцип объективизма рекомендует ученому быть честным, неангажированным, непредвзятым, не примешивать свои интересы и потребности в исследование, не искажать результаты реально происходящих в эксперименте процессов, чтобы получить такие данные, которые не расходятся с действительностью.
По словам Э. Фромма, «объективность означает не беспристрастность, но определенное отношение, а именно умение не искажать и не фальсифицировать вещи, людей, да и самих себя» [20; 91]. В то же время ученому необходимо отдавать себе отчет в своих собственных позициях и интересах, целях и задачах, чтобы «не растекаться мыслию по древу», а концентрировать внимание на объекте, предмете и цели своего изучения.
М. М. Бахтин писал: «Любой объект знания (в том числе человек) может быть воспринят и познан как вещь. Но субъект как таковой не может восприниматься и изучаться как вещь, ибо как субъект он не может, оставаясь субъектом, стать безгласным, следовательно, познание его может быть только диалогическим» [2; 363]. В диалоге исследователь изучает не только мир сам по себе («вещь-в-себе»), но и вещь в отношении к себе, в свете его субъективных потребностей.
|
Реализм |
Идеализм |
|
Объективное |
Субъективное |
|
Проверяемое |
Априорное |
|
Конкретное |
Абстрактное |
|
Действительное |
Воображаемое |
|
Достоверное |
Вероятностное |
|
Очевидное |
Интуитивное |
|
Истина |
Правда |
Объективизм
Проверяемость Достоверность
Элиминация субъекта Дифференциация Отвлеченность Однозначность Количество
Анализ
Субъективизм
Уникальность
Оригинальность
Учет интересов и потребностей
Целостность
Целесообразность
Многосторонность
Качество
Синтез
Конечно, мир субъективной реальности является объектом изучения главным образом гуманитарного ученого, представители других наук мало интересуются этими феноменами. Используя выведенную нами бинарно-тетрактидную концепцию, можно попытаться выстроить понимание специфики методологии четырех ведущих классов научного знания.
Таким образом, предлагаемая методологическая программа, как нам представляется, открывает новые перспективы для осмысления мира в рамках постнеклассической науки, но она должна быть нацелена не столько на аналитическое раздробление мира на мозаичные осколки, сколько на синтезирование целостной картины и выявление того, что китайцы называли «дао», а египетские жрецы – «мера гармонии».
|
Технические науки |
Естественные науки |
Социальные науки |
Гуманитарные науки |
|
Механическая и |
Биохимическая |
Социальная |
Духовная энер- |
|
электрическая энергия |
и электрическая энергия |
энергия масс |
гия |
|
Объект – искус- |
Объект – |
Объект – поле |
Объект – ду- |
|
ственно перера- |
естественная |
социальных |
ховная субстан- |
|
ботанная материальная субстанция |
материальная субстанция |
отношений |
ция |
|
Максимальная |
Относительно |
Минимальное |
Невозможность |
|
математизация знания |
большая возможность математизации |
использование математических методов |
математизации |
|
Практика как |
Практика как |
Польза как кри- |
Ценность и |
|
критерий исти- |
критерий исти- |
терий достовер- |
смысл как кри- |
|
ны |
ны |
ности |
терии достоверности |
Список литературы Новая парадигма осмысления мира
- Аверинцев С. С. Античная риторика и судьбы античного рационализма//Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М.: Язык русской культуры, 1996. С. 115-145.
- Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук//Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 361-373.
- Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. Минск: Харвест, 1999. 1408 с.
- Винер Н. Творец и робот. М.: Прогресс, 1966. 104 с.
- Гроф С. За пределами мозга. М.: ТПИ, 1993. 504 с.
- Дмитриев Б. Что такое движение. 2-е изд. Киев: Истина, 2003. 136 с.
- Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучных форм знания. М.: Политиздат, 1990. 464 с.
- Карсавин Л. П. Философия истории. СПб.: АО «Комплект», 1993. 353 с.
- Катасонов В. Н. Лестница в небо: Генезис теории множеств Г. Кантора и проблема границ науки//Границы науки/Под ред. Л. А. Марковой. М.: ИФ РАН, 2000. С. 6-54.
- Лосев А. Ф. Диалектика мифа//Лосев А. Ф. Миф -число -сущность. М.: Мысль, 1994. С. 5-216.
- Л о с е в А . Ф . Дополнение к диалектике мифа (осень 1929 г.) // Старая площадь: Вестник Архива Президента Российской Федерации. 1996. № 4. С. 3-9; Лосев А. Ф. Дополнения к «Диалектике мифа» // Вопросы философии. 2000. № 3. С. 63-69.
- Паскаль Б. Мысли. М.: REFL-book, 1994. 528 c.
- Пивоев В. М. История философии. СПб.: Лань, 2002. 352 c.
- Пивоев В. М., Шредер С. А. Бергсон и проблемы методологии гуманитарного знания. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. 112 с.
- Розанов В. В. Во дворе язычников. М.: Республика, 1999. 464 c.
- Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом. М.: Наука, 1984. 232 c.
- Типпинг К. Радикальное прощение. М.: София, 2009. 320 с.
- Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М.: Книга, 1986. 238 с.
- Фромм Э. Ситуация человека -предмет психоаналитического исследования//Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс, 1988. С. 443-482.
- Фромм Э. Психоанализ и этика. М.: Республика, 1993. 415 с.
- Хакинг Я. Представление и вмешательство: Введение в философию естественных наук. М.: Логос, 1998. 296 с.
- Шпенглер О. Закат Европы. М.: Мысль, 1998. Т. 2. 606 с.