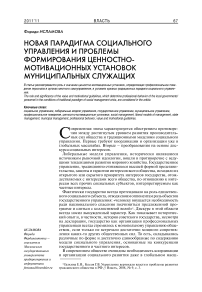Новая парадигма социального управления и проблемы формирования ценностно-мотивационных установок муниципальных служащих
Автор: Исламова Фарида Фердинантовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 11, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается роль и значение ценностно-мотивационных установок, определяющих профессиональное поведение персонала в органах местного самоуправления, в условиях кризиса традиционных парадигм социального управления.
Социальное управление, либеральные модели управления, государственное управление, муниципальное управление, профессиональное поведение, ценностно-мотивационные установки
Короткий адрес: https://sciup.org/170165649
IDR: 170165649
Текст научной статьи Новая парадигма социального управления и проблемы формирования ценностно-мотивационных установок муниципальных служащих
С овременная эпоха характеризуется обострением противоречия между достигнутым уровнем развития производительных сил общества и традиционными моделями социального управления. Первые требуют координации и организации уже в глобальных масштабах. Вторые – преобразования на основе дискурса социальных интересов.
Либеральные модели управления, исторически являвшиеся источником рыночной идеологии, вошли в противоречие с ведущими тенденциями развития мирового хозяйства. Государственное управление, традиционно считавшееся высшей формой представительства, защиты и гарантии интересов всего общества, исходило из открытого или скрытого приоритета интересов государства, отождествляемых с интересами всего общества, по отношению к интересам всех прочих социальных субъектов, интерпретируемым как частные интересы.
Фактически государство всегда претендовало на роль единственного социального субъекта, отводя своим оппонентам роль объектов государственного управления: «человеку внушается необходимость ради национального спасения подчиниться предложенной программе и слиться с коллективной волей»1. Дискурс в этой области всегда носил вынужденный характер. Как показывает исторический опыт и, в частности, история советского государства, несмотря на декларации, государство как организация профессиональных управленцев всегда стремилось к монопольному управлению обществом, если только не встречало достаточно мощного сопротивления каких-то других общественных сил. То есть, складывались различные по форме и достаточно единообразные по содержанию модели социального управления, основанные на конкуренции государственного и частного интересов.
В современном обществе очевидны необходимость координации и организации социального развития даже в глобальном масш- табе и невозможность управления таким сложным образованием силами одной управленческой команды. Как отмечает И. Валлерстайн, сегодня кризис переживает и либерализм, и государственный патернализм1. Это особенно болезненно сказывается на России, где радикальный либерализм и государственный патернализм стали двумя составляющими национального менталитета2. Если на Западе конкуренция государственного (общественного) и частного (классового, корпоративного) интересов в вековой борьбе сформировала хотя бы какие-то основы гражданского общества, то в России этого не произошло. И только сейчас мы пытаемся решить эту старую задачу в новых условиях. Одной из наиболее перспективных форм решения является формирование системы муниципального управления. Это – ответ на ожидания общества, обращенные к социальному управлению.
Для того чтобы этот ответ был научно обоснованным и мог удовлетворить ожидания общества, необходимо переосмысление методологических и теоретических основ концепции муниципального управления. Все большую популярность завоевывают идеи «постбюрократической организации», т.е. отказа от традиционной иерархической структуры управления в пользу горизонтальных отношений партнерства, кооперации, перехода от «логики учреждения» к «логике обслуживания». Эти и подобные им новации в области оптимизации государственной и муниципальной службы повлияли на представления о профессионализме управленческого персонала, о критериях оценки эффективности его работы.
Наметившееся изменение подходов к системе социального управления предполагает соответствующую трансформацию мотиваций, организационной культуры и организационного поведения муниципальных служащих. Определяющим фактором является то, что обладающий ныне своими собственными ресурсами гражданин – не «управляемый объект», а партнер государственных и муниципальных учреждений. Из статуса «подопечного», «просителя» он переходит в статус реализующего свои права клиента, потребителя управленческих услуг. Эти новые явления современности просто не могут не входить в противоречие с накатанной традицией бюрократического управления.
Для разрешения данного противоречия необходимо создавать и развивать теоретико-методологическую базу новой идеологии управления.
В этом плане прежде всего необходимо подчеркнуть роль социологической диагностики социальной действительности.
Предмет исследования должен отвечать четким определениям пространственновременных (современный российский регион) и количественно-качественных (еще только складывающаяся, не устоявшаяся, не оформленная до конца новая система социального управления) границ изучения, тем самым учитывая специфику конкретно-исторического этапа развития общества. При этом крайне важно понимать и помнить, что социальный объект – это система с рефлексией. Нельзя изучать систему социального управления вообще. Она всегда конкретна.
Развитие общества связано с социальной дифференциацией. Чем выше уровень последней, тем выше уровень конфликто-генности. Но развитие общества связано и с кооперацией и координацией действий социальных субъектов. Социальная солидарность как необходимое условие жизнедеятельности социума снижает уровень конфликтности. Чем выше уровень развития общества, тем большее значение приобретает институционализация социального партнерства. В сфере управления современным обществом этот процесс выступает в форме развития государственного и муниципального управления. Однако к началу нового тысячелетия в мире не сложились, с одной стороны, соответствующая запросам времени модель эффективного функционирования и взаимодействия государственного и муниципального управления, и, с другой стороны, целостная концепция организации социального управления в современных условиях.
Существенным фактором торможения формирования адекватной системы социального управления остается доминирующее представление о приоритетной роли государства и государственных интересов, интерпретирующее все прочие интересы как угрозу единству социума, вызов социальной солидарности и партнерству. «В отношениях между властью и обществом назрела необходимость перехода от технологии воздействия к технологиям взаимодействия, а также учета общественного мнения и создания условий для привлечения граждан к принятию управленческих решений, особенно на местном уровне»1.
Следует подчеркнуть, что пути развития государственности в России отличаются от тех, что характерны для стран Запада.
Как и в Европе, постоянные войны, требовавшие регулярных армий, обусловливали необходимость объединения национальных ресурсов и преодоления любого раскола в обществе путем установления прямого (без посредников в лице политических партий, представительных учреждений и пр.) правления, т.е. всевластия государственного чиновничества. Постоянные войны, национальное государство и прямое правление были причинами появления друг друга. Но в России геополитический фактор препятствовал характерному для Европы и Северной Америки процессу формирования гражданского общества как реакции на самодержавный милитаризм. Здесь государственный патернализм (все войны велись под знаменем защиты интересов Отечества), в отличие от Европы, не стал предпосылкой формирования организованного либерализма. Эта историческая тенденция усилилась в советский период.
В результате российские реформы приобрели характер «запаздывающей модернизации»: сегодня приходится решать задачи, решенные на Западе много десятилетий назад, тогда как жизнь требует решения и тех задач, которые в Европе и Северной Америке решаются в совсем иных условиях. Своеобразие России накладывает отпечаток на все социальные структуры, лимитирующие социальное поведение людей. Это отражается и на организационной культуре, на лежащих в ее основе функционально-ролевых установках муниципальных служащих.
С одной стороны, эти процессы детерминированы рыночными преобразованиями. С другой стороны, на них «давят» традиции, менталитет.
При таких обстоятельствах проявляется доминанта ценностно-мотивационных установок, определяющих тот тип соци- ального поведения, который складывается в процессе реального социального взаимодействия. Не столько правила и нормы, устанавливаемые законодателями или государственными чиновниками высших рангов, равно далекими от непосредственных, обыденных интересов «частника», сколько нормы и представления, складывающиеся в процессе функционирования конкретных муниципальных образований, в жизненной повседневности социальных групп и индивидов, действующих локально, «здесь и сейчас», преимущественно определяют реальное социальное поведение людей. При этом данный фактор сильнее воздействует на более привязанных к местным интересам граждан и отделенных от государственного аппарата муниципальных служащих. Но в то же время в своей профессиональной деятельности они зависят от государства (правовые нормы, ограниченность муниципального бюджета и пр.). Возникает определенный дуализм внутренних регуляторов профессионального поведения муниципальных служащих, препятствующий последовательной рационализации их деятельности. Если государственные служащие действуют в «коридоре» между Сциллой рыночных преобразований и Харибдой ментальных традиций российского чиновничества, то положение муниципальных служащих усугубляется еще и неопределенностью функционально-ролевых позиций самой муниципальной службы, которые нельзя сводить исключительно к действующим правовым нормам.
Таким образом, в результате трансформации российского общества изменились объективные условия функционирования социального управления и социальный заказ, который общество предъявляет к специалистам – управленцам. Эти изменения предполагают необходимость критического переосмысления, прежде всего, ценностно-мотивационных установок персонала государственной и муниципальной служб. То есть, происходит трансформация социальных норм и мотивов организационного поведения специалистов – управленцев.
В условиях неопределенности, присущей всему современному обществу и России в особенности, невозможна последовательная рационализация профессионального поведения управленца. В результате не столько функции профессиональной группы работника определяют их статусы, позиции, роли и диспозиции, сколько, наоборот, понимание работниками своих функций, статуса, роли, необходимых диспозиций оказывается главным детерминантом профессионального поведения.
Организационную культуру нельзя просто декларировать посредством введения кодекса профессионального поведения, должностных инструкций и пр. Она может играть отводимую ей роль основы организационного поведения только в том случае, если ее нормы, принципы, правила и образцы усвоены работниками.
«В социокультурном плане нынешнее поколение чиновников несет различные моральные ценности, его ряды пополняют кадры советской, партийной, комсомольской номенклатуры, разночинцы – выходцы из разных слоев постсоветской интеллигенции демократического толка, прежде не имевших высоких должностей, молодое поколение российского среднего класса»1.
Для всех органов управления сегодня типичны такие проблемы, как создание и формирование коллективов исключительно по формальным признакам, распределение ролей и продвижения по службе не только (а иногда и не столько) по деловым качествам, действие негласной установки: «выполнение задачи – твоя обязанность; она не нуждается в комментариях и каких-либо поощрениях», принцип поведения: «поручили, – выполню; не поручали – ничего делать не буду», позволяющий уходить от риска и связанной с ним ответственности, сохраняя стабильное положение «прекрасного, исполнительного работника». Ограниченность возможности внедрения инноваций, недооценка таких факторов, как предоставление достойных условий работы, система мотиваций, стимулов, соотносимых с личным вкладом работника, сложность процедур избавления от нерадивых работников, характерная для органов социального управления, неразвитость резерва – все это снижает эффективность деятельности управленческих команд независимо от профессиональных качеств и способностей их членов.
Центр тяжести административной реформы объективно смещается на состояние качества государственных и муниципальных служащих. Организационноуправленческие условия все более из самоцели реформаторской деятельности превращаются в инструмент формирования новой идеологии и культуры социального управления. Реорганизация и законотворчество становятся способом трансформации менталитета управленческого персонала.
Реформа организационно-управленческих структур – начало и средство изменения культуры управления. Зарубежный опыт показывает, что необходим решительный поворот к воспитательной работе с кадрами. Главная проблема административной реформы не столько в том, что содержание и кадры системы социального управления не вполне соответствуют потребностям сегодняшнего дня, сколько в том, что очень медленно меняется отношение к управлению, его миссии, кадрам, критериям оценки эффективности и т.п. Именно это способствует деформации социального управления, проявлению консервативных тенденций, негативно отражается на состоянии и тенденциях развития кадрового потенциала муниципального управления. И чем ближе стоит управленческая структура к людям, их конкретным, «частным» интересам, тем сложнее идет процесс реформирования управленческой культуры, проявляющейся в организационной культуре и организационном поведении персонала.
Поэтому в фокусе административной реформы, а значит, и интересов исследователей, правомерно оказывается именно муниципальная служба.
И так как она находится еще в состоянии становления, необходим научный мониторинг процессов, происходящих в этой сфере жизнедеятельности современного российского общества.